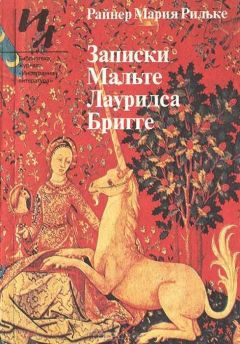Saltimbanques [145]
(Париж, 14 июля 1907)
Между Люксембургским дворцом и Пантеоном снова расположился со своей семьей папаша Роллен. Расстелен тот же ковер, те же поношенные пальто, теплые зимние пальто свалены на стул, где еще так много места, что младший сын, внук старика, время от времени прохаживается по краешку сиденья. Мальчику это нужно, он, как говорится, новичок в стремительном прыжке, когда, выходя из высокого сальто, он приземляется, его ногам больно. Его крупное лицо вот-вот зальют слезы, но они застывают в кромке широко раскрытых глаз. Поэтому он осторожно держит свою голову, словно полную чашу. Он не расстроен, скорее наоборот, если чаша расплескалась бы, он даже не заметил бы этого. Это просто боль, которая плачет, а такое мальчику простительно. Со временем ему станет легче, и боль наконец исчезнет. Отец давным-давно позабыл про нее, и дед тоже вот уже шестьдесят лет не помнит, иначе он не стал бы таким знаменитым. Но взгляни-ка — папаша Роллен, знаменитость всех ярмарок, уже не «работает». Он не размахивает чудовищными гирями и не вымолвит ни словечка — а ведь был речистей всех. Он занят барабаном. В трогательном смирении стоит он с отсутствующим выражением на лице атлета, опутанном беспорядочной сетью морщин, из каждой морщины как бы выглядывает груз прошлых напряженных лет. Одетый по-городскому, с вязаным галстуком небесно-голубого цвета на мощной шее, в скромном пиджачке, он отстранился от всех в зените своей заслуженной славы, пребывая в роли, которая, так сказать, не блещет. Но тот, кто в молодости видел его однажды, тот, конечно же, знает, что в этих рукавах таятся знаменитые мышцы, легчайшая игра которых заставляла взлетать гири. Тот прекрасно помнит его мастерскую работу и, перебрасываясь парой слов со своим земляком, показывает на старика, а старик чувствует их взгляды, рассеянно-задумчивые и полные почтения. Она еще, конечно, при мне, эта сила, молодые люди, думает он; и уж коли ее больше нет в руках, значит, она ушла в корни; она где-нибудь еще здесь, это целая глыба. И для барабана ее хватает с лихвой. И он колотит. Однако барабанит чаще, чем надо. Зять свистит ему и машет рукой; старик не ждет награды для барабанной тирады. Испуганный, он прерывает дробь на середине, поводит могучими плечами в свое оправдание и не спеша переступает с ноги на ногу. Но вот уже нужно остановиться. Черт возьми. Папаша! Папаша Роллен! Он вновь забарабанил. Ему едва ли это понять. Он мог бы барабанить без конца, пусть не думают, что он выдохся. Но вот выступает его дочь: она находчива и напориста, работает без сучка и без задоринки и потешается над всеми. Она теперь взяла дело в свои руки. Это приятно. Зять, конечно, работает хорошо, ничего не скажешь, с огоньком, как положено. Но у нее это в крови, сразу видно. Такой надо родиться. Она готова. Музыка, кричит она. И барабан старика громыхает, будто тот играет на сорока барабанах. Папаша Роллен, эй, папаша Роллен, кричит кто-то из зрителей, пробравшийся только что вперед и признавший его. Но старик походя только кивнул головой. Барабанная музыка — дело чести, а честь он строго блюдет.
(Написано для Регины Ульман)
ГРОЗА гроза
чего тебе надо у нас, где сплошная нужда, где судьба-лиходейка, где загадочны души?
что ты над этим домом, где мы уже не уверены в завтрашнем дне, где мы только беженцы, живущие в бегстве, вошедшем вместе с тобой? что ты над нами, усталыми, потерявшими дух в тревожных полях? чего тебе надо от дерев, живущих дольше, чем самый древний старец среди нас? Какое право у тебя на тех, кто их посадил? Зачем ты старца прерываешь в его воспоминанье неустанном? А мы, живые, восседаем равнодушно здесь и копим наши силы тяжким грузом в плечах и сидим без дела, покуда ты в деянье. И дети пробудились, они удивлены, и эта ярость в воздухе, которой мать не может объяснить им. Она прижмет их крошечные лица к своим коленям поочередно, но каждое лицо знает, что лучше уже не будет.
Гроза гроза, чего тебе надо здесь, где хватает всего и ты не нужна никому? Здесь жизнь и временами смерть. Здесь глыбы горя и крохи радости в каком-нибудь ларе. Всего у нас в избытке, могу тебя уверить, — разрухи тоже, пепла в очаге и также шелухи картофельной. И половиц скрипучих, и мрака под ступеньками, всего, что бренно. Пусть сильный к сильным примыкает, вечный Боже, минуя нас. Гроза, гроза, ступай к Марии деве (о ней ты знаешь?), стань такою крепкой, как ты можешь, она тебя полюбит, ибо она крепче, чем ты. Она играть начнет с тобой и не заметит, что ты страшна, ведь Пресвятая дева крепче. Она тебя на длань возьмет, как большущего шмеля, тебе позволив жалить, но это будет не страданье в длани девы, а благо в твоем жале…
(Париж, церковь Сент Этьен-дю-Мон)
Застывшие на фоне послеполуденной зимней хмари в своем багряно-желтом превосходстве, они были видны мне в стенном крестце Пантеона — отставленные в сторону рекламные щиты людей-сандвичей с длинными и костлявыми, как у комаров, ногами. Сумрак вынудил меня поднять глаза на фасад церкви Сент Этьена, только там, на чудесном инструменте этого здания серый цвет играл во всех потаенных тонах. На лестнице сидели нищенки, одна из них на самой нижней ступеньке, выше другая, с малышкой на руках, у входа в церковь повис на костылях дряхлый папертник. Я вошел, и первое, что мне бросилось в глаза, — стоявшие у рекламных щитов мужчины. Все разного роста, они вытянулись один за другим в заношенных светло-голубых пиджаках; пять-шесть патлатых грязных голов, словно извлеченных на белый свет из помоек приблудными псами и насаженных на изогнутую суконную консоль рыжих воротников уродливой униформы, протертой до дыр. Музыка набирала силу и взлетала ввысь под своды храма; за красивой замыкающей хоры каменной оградой все сверкало и переливалось от золота и свечей, в лучах лениво плавали тысячи мглистых пылинок. Священник торжественно правил требу в пространстве, раздвинутом архитектурой и удлиненном тенями, на щеках мальчиков из хора то и дело вспыхивал румянец, и тот, кто был утомлен совершавшимся действом, уносил свой взгляд мимо колонн и свода в сумрак, пронизанный светом, проникающим сквозь старый витраж. Ныне и присно царила сама себя возвышающая музыка: она проникала в эти сердца, чтобы возвысить их, согреть чувства, и возвращала к мыслям о себе… Зачем чувства? Что за мысли? Память о прошлом. Но что такое память о прошлом без будущего? Один из людей-сандвичей, огромного роста, выглядел не так уж скверно: характерная голова, как сказали бы прежде, нос, красиво продолжающий непрерывную линию ото лба, соразмерность губ с бородой и усами, как на римском бюсте. Можно спросить: судьба, способна ли ты напомнить себе, чем ты здесь, собственно, занята? Почему ты не сумела достичь большего? Стыдно, судьба, у тебя должны были бы быть средства к цели… Он чувствует, что его кто-то рассматривает, но я отвожу взгляд, ему меня не видно в общей массе, и он снова успокаивается, огромный, в униформе из засаленной голубизны. Боже правый, а тот, маленький, по-человечески жалкий, втянул голову в плечи. Что происходило в нем? Эти пять-шесть людей-сандвичей, призови их небеса к ответу, принесли на землю ложь, несмотря на церковную музыку и таинственный полумрак, царящий в рождественской атмосфере. Возвращаясь, я заметил снаружи еще несколько людей-сандвичей, стоявших у рекламных щитов, им явно не о чем было вспомнить. Но праведники, возжаждай они однажды испытать себя в этой толчее, не оказались бы участниками чудесного перевоплощения, войди они в храм? Как мне хотелось, чтобы эти шестеро стоявших у входа в церковь с помощью подобного опрощения стояли бы рядом с теми шестерыми под сводами храма; это была форма видения, зависевшая от способности средневековья вернуть миру гармонию.
Она ходит и ходит из стороны в сторону, как часовой по краю крепостного вала, где больше ничего нет. И, как в часовом, в ней тоска по дому, в осколках памяти гнетущая тоска. Подобно тому как на морском дне должно быть зеркало, зеркало из каюты затонувшего корабля, зеркальные осколки, которые, конечно, в любом случае ничего не отражают: ни лиц пассажиров, ни их жестов, ни манеры поворачиваться перед зеркалом и как-то неуклюже выглядеть со спины; ни стены, ни угла, где отдыхалось; еще меньше могут отражать то, что освещено зыбким светом снаружи и сверху; ничего, никого. Но подобно тому, как в тех осколках, может быть, появляются двойники водорослей или осевшей тинистой жижи, или внезапный двойник рыбьей головы, или двойник самих водных струй, текучих, мутноватых, вновь скопляющихся струй, далекие, искаженные, неверные и тут же снова исчезающие двойники того, что однажды было, — так воспоминания, треснувшие осколки воспоминаний покоятся на темном дне ее крови.