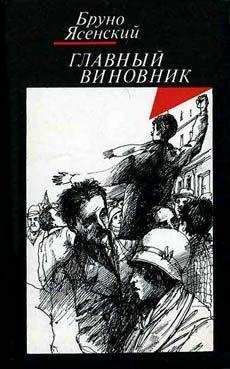Губы маленького японца беззвучно вздрагивали.
П'ан Тцян-куэй сбежал по лестнице вниз и миновал ворота. На улице глазам его представился вновь на мгновение маленький японец-чистюлька с вздрагивающими уголками серых губ.
«Ради одной юбки перезаразить всех? – подумал П'ан с горечью. – Собственно, таких надо бы расстреливать».
Впрочем, тут же забыл про весь инцидент.
Занятый делами крохотного сеттльмента, П'ан Тцян-куэй не заглядывал с тех пор к профессору. Правда, ежедневно получал подробный телефонный бюллетень о состоянии работ профессора, которые, вопреки всем усилиям, по-прежнему не давали положительных результатов. Пользуясь свободным моментом, П'ан Тцян-куэй решил его навестить.
Тропинками вечереющих улочек ноги вскоре вывели на площадь Пантеона. Окно в третьем этаже в доме № 17 зияло по-прежнему бельмом закрытых ставней.
Внезапно пошел дождь, заслоняя дома шторой из стеклянных капель. П'ан Тцян-куэй, желая переждать его, вошел в открытый Пантеон.
Пантеон был пуст, и от высокого купола, от тенистых сводов веяло прохладой и покоем. Пустая касса сияла по-прежнему негостеприимной надписью: «Вход 2 франка». Одинокие шаги по каменному паркету долго перекликались звонким многократным эхом. Со всех сторон белками глаз без зрачков всматривались в пришельца хорошо знакомые фигуры.
* * *
Дождь прошел уже давно, когда П'ан Тцян-куэй появился опять у выхода из Пантеона.
У решетки собралась за это время кучка желтых студентов, приветствуя диктатора восторженными восклицаниями. П'ан Тцян-куэй застенчиво поднял воротник пальто и через минуту исчез в извилистых проулках.
Между тем быстро наступали сумерки, и на утопающих во мраке мостиках тротуаров желтые фонарщики поспешно развешивали игрушечные бумажные шары, пестрые аксессуары какой-то причудливой венецианской ночи.
В лаборатории профессора устоялся тошный тепличный воздух, облекающий все контуры зыбкой, извилистой линией; точно мухи под толстым стеклянным колпаком, копошились в нем валившиеся от усталости прозрачные ассистенты.
Профессор с растрепанной шевелюрой переливал из одной колбы в другую мутноватую, белесою жидкость и, смешивая ее с содержимым различных пробирок, приготовлял какую-то реакцию. На вопросы П'ан Тцян-куэя отвечал невнятным бормотанием, раздраженно отмахиваясь от них руками. Невозможно было вытянуть из него ни единого слова.
Полуживые от изнурения ассистенты, казалось, не понимали задаваемых им вопросов, отвечали не сразу и невпопад.
Побродив по залам, П'ан Тцян-куэй взглянул на часы: семь – час вечернего рапорта. Быстрым шагом направился к выходу. В дверях налетел на него с размаха небольшой ассистент в белом халате. Хрустнуло стекло. Разлитая жидкость обрызгала П'ан Тцян-куэю лицо и пиджак.
Маленький ассистент рассыпался в извинениях. П'ан Тцяи-куэй кинул взгляд на зажатую в пальцах ассистента шейку разбитой пробирки со стекавшей еще мутной белесой влагой, поднял глаза на белевшее перед ним лицо. Лицо показалось откуда-то знакомым. Одно мгновение силился вспомнить. Узкие вздрагивающие губы… Маленький японец-чистюлька… Просил протекции для жены…
Японец продолжал извиняться. П'ан Тцян-куэй посмотрел в упор ему в глаза и натолкнулся на отпор пары холодных, устремленных на него зрачков. Ему показалось, что в них мелькнули две злорадные искорки.
Не произнеся ни слова, П'ан Тцян-куэй круто повернул и направился в глубь лаборатории. Вынув из шкафа большую бутыль с раствором сулемы, он выплеснул ее содержимое на пиджак, долго и тщательно мыл лицо и руки. Затем не глядя на все еще извинявшегося ассистента, он быстро сбежал по лестнице.
Вернувшись в институт, П'ан Тцян-куэй занялся приемом докладов и распоряжениями на завтрашний день. Стрелка больших часов приближалась уже к двенадцати, когда, отдав последние распоряжения, диктатор отпустил курьера и притушил слишком яркую люстру.
В углу зала, у стены, принесенная сюда три дня тому назад и все три дня остававшаяся нетронутой, стояла узкая походная кровать. П'ан Тцян-куэй постелил ее сам и в первый раз за три дня стал раздеваться. Оставшись совершенно голым, он тщательно вытер все тело каким-то прозрачным раствором. Натираясь под мышками, он на минуту задержался и, подняв руку, внимательно присмотрелся. Железы под мышками ему показались слегка набухшими. Долго и тщательно он ощупывал их пальцами.
– Самовнушение, – пробормотал он наконец и, набросив на себя рубашку, быстро нырнул под одеяло.
Уснул тотчас же.
Ночью ему снились разукрашенные флагами кварталы, оркестры и марширующие по улицам колонны китайской Красной армии. Украшенный красным флагом Пантеон открыт был настежь, и у решетки его ожидала вереница утопавших в цветах грузовиков. По обе стороны шпалеры солдат, словно деревянные, отдавали честь ружьем. П'ан Тцян-куэй удивленно спросил первого солдата о причине торжества.
– Перевозим их в Китай, – ответил солдат. Теперь только П'ан Тцян-куэй вспомнил, что пришел ведь сюда именно за этим, и, пересекая зал, быстро сбежал в подвалы.
Подвалы были открыты, и в них толпилась торжественная желтая толпа. Протиснувшись вовнутрь, П'ан Тцян-куэй увидел взвод солдат, приподнимавших громадными железными ломами саркофаг Руссо. Саркофаг, будто прикованный к земле, не давался.
– Еще! Разом! Р-р-раз!
Ни с места.
П'ан Тцян-куэй, оттолкнув первого солдата, всей тяжестью тела налег животом на лом.
– Теперь по команде: р-р-раз!
Не пошатнулся.
– Р-р-р-раз!
Опять ни черта.
– Р-р-р-раз!
Пот каплями выступил у него на лбу. Образ исчез. П'ан Тцян-куэй долго не мог осознать, что именно случилось, где он, погруженный в непроницаемую тьму.
Первым рефлексом, который затрепетал, как рыба, на зеркальной поверхности сознания, была сильная боль внизу живота. Сейчас… Что же это было? Ага. Налегал животом на лом. Когда же это было и где?
Боль становилась с каждой минутой все невыносимее и помогла мысли утвердиться в пространстве. Тьма. Ночь. Кровать. В зале института. Боль. Разве???
Боль становилась нестерпимой. П'ан Тцян-куэй спрыгнул босиком на холодный паркет, нащупал выключатель и повернул его. Вспыхнул свет, отрезывая вымощенное бумагами зеленое сукно стола, высокие спинки кресел, потолок, ночь.
Дикая боль в животе не унималась. П'ан Тцян-куэй с трудом добрался к окну, где на подоконнике стояла оставленная с вечера бутылка коньяку, и залпом выпил ее жгучее содержимое. Коньяк раскаленной струею разлился по внутренностям, заглушая на миг ощущение боли.
П'ан Тцян-куэй медленным, неуверенным шагом вернулся к кровати. Мысли прыгали, укороченные, недодуманные до конца, как картины в старом, рвущемся ежеминутно фильме.
Острая боль в животе снова давала себя чувствовать.
П'ан Тцян-куэй вытянулся во весь рост и попытался не думать ни о чем. Проглоченный коньяк кипел под черепом теплым плеском ритмичных волн. Живот, точно мешок, полный боли, удалился куда-то; все тело словно удлинилось чрезмерно, увеличивая на несколько метров расстояние между головой и животом. Холодные волны боли наплывали оттуда одна за другой. Усталый мозг, напрасно пытавшийся погрузиться опять в теплую ванну сна, бросал на экран закрытых век рассыпающиеся и с трудом вновь соединяемые образы. На минуту одолел его сон.
В полусне действительные очертания предметов стали медленно стираться и изгибаться, создавая из новых сочетаний одних и тех же линий все новые пейзажи.
Там, где только что тысячью свечей сияла люстра, теперь пламенело громадное, шарообразное солнце, тяжелое, как капля раскаленного металла, готовая каждую минуту упасть на землю, обугливая ее. То, что минутой раньше казалось рядом скамеек, томно изгибалось теперь на солнце горбом тысяч борозд, торчащих из мутного стекла воды. Погруженные по колена в воду, маленькие, сморщенные, желтые люди в лохмотьях садят рис. Куда ни кинешь взгляд – всюду вода, борозды и сгорбленные, скорчившиеся под вековым ярмом труда человеческие спины под раскаленной каплей солнца, готовой каждую минуту упасть.
Громадная, мучительная волна всеобъемлющей любви медленно ползет от живота к гортани валом накопленных теплых слез. П'ан Тцян-куэй чувствует: еще миг, и он бросится лицом в размокший лесс борозд; станет целовать горькими губами раскаленные, пожелтевшие от пота зерна животворного риса; схватит в руки и прижмет с плачем к сердцу крохотное, морщинистое, бабье личико согбенного мужика.
Вдруг, точно сквозь слезы, видение начинает дрожать и блекнуть. На первом плане в воздухе мерещится пара гигантских ступней, мелькающих в беге, и туман спиц несущейся навстречу коляски.
Острая, жгучая боль и мрак. Да, это упала раскаленная капля солнца. Серый, едкий дым заволакивает все мягкой хищной лаской. В прядях дыма, как в петлях, колышутся искаженные человеческие лица.