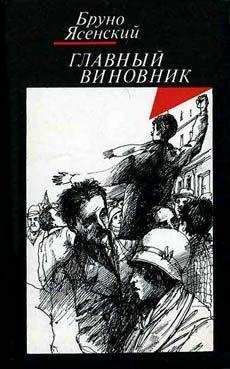Вдруг, точно сквозь слезы, видение начинает дрожать и блекнуть. На первом плане в воздухе мерещится пара гигантских ступней, мелькающих в беге, и туман спиц несущейся навстречу коляски.
Острая, жгучая боль и мрак. Да, это упала раскаленная капля солнца. Серый, едкий дым заволакивает все мягкой хищной лаской. В прядях дыма, как в петлях, колышутся искаженные человеческие лица.
Чье же это припухшее женское лицо с глазами, расширенными детским испугом? Близкие, знакомые черты. Чен! Слов не слышно, но в рисунке губ внятно трепещет где-то уже раз услышанная фраза: «Как страшно умирать».
Дым медленно рассеивается, открывая красные скелеты зданий.
Нанкин.
Пламя пожирает китайские кварталы, останавливаясь, как зачарованное, перед ажурной решеткой концессий. Из-за решетки белое, сытое лицо рябого мастера с похабной гримасой высунуло язык над дымящимся жерлом пулемета.
– За мной! – кричит П'ан Тцян-куэй наступающей за ним толпе, перерезывая гигантскими прыжками отделяющую его от решетки площадь.
Внезапно он оглядывается. Площадь пуста. Нет ни одного человека. Рябое лицо из-за решетки оскаливается гримасой дразнящего хохота над белой струйкой дыма, выбивающейся из пулемета.
Страшная боль в животе, кажется, рвет напряженные струны внутренностей.
– Попало в живот, – шепчет П'ан Тцян-куэй, напрасно силясь подняться и продолжать бег.
Боль вьется во внутренностях, как червь. Дым рассеялся. На потолке ясно светит люстра. Зеленое сукно стола. Телефон. В большом, ярко освещенном зале по углам извивается чей-то стон.
– Кто может здесь стонать?
П'ан Тцян-куэй одним броском приседает на койке. Оказывается это стонет он сам. Нечеловеческая боль в животе бьется, как раненая птица.
– Ага, значит – конец?
П'ан Тцян-куэй дважды громко повторил это слово, не в состоянии доискаться в нем какого-либо смысла. Скрючиваясь от боли, он начал одеваться. Одевался долго, с перерывами, чтобы перехватить дыхание после особенно острых припадков боли.
Протянул руку за пиджаком. Пиджак был еще влажный. П'ан Тцян-куэй остался с протянутой рукой. Пятна от сулемы…
Разбитая пробирка… Маленький японец… Две злорадные искорки в глазах… На лестнице – влажное прикосновение к руке теплых вздрагивающих губ.
П'ан Тцян-куэй выпрямился. Машинальным жестом натянул на руки серые кожаные перчатки и обмотал шею шарфом – средство, чтоб возможно меньшая поверхность кожи соприкасалась с зачумленным воздухом.
Окончив одеваться, П'ан Тцян-куэй с трудом добрел до стола, отыскал перо и бумагу. Боль, ползущая к глотке, наполнила уже весь рот, и дрожащие зубы беспомощно звонили тревогу. Чтобы писать отчетливо, он левой рукой должен был придерживать челюсть. Написав два письма, он аккуратно запечатал их и надписал адрес.
Только по окончании этой процедуры он вынул из ящика стола большой наган, товарища красных дней Нанкина, и уселся в кресло. На столе позвонил телефон.
П'ан Тцян-куэй отложил револьвер и взял трубку. В первый момент из-за перепуганного дрожащего голоса в трубке он не мог понять, кто говорит. Говорил адъютант, заведующий лабораторией профессора.
– Сегодня ночью неожиданно – не было симптомов – профессор умер. С вечера – не ложился спать. Ассистенты при смене обнаружили…
П'ан Тцян-куэй повесил трубку. На бледные закушенные губы с трудом выкарабкалась едва заметная улыбка. С улыбкой он положил обратно в ящик черный наган и из бокового ящика достал небольшой полированный шестизарядный револьвер.
Телефон зазвонил вторично.
– Алло! Товарищ П'ан Тцян-куэй? Нас разъединили, я хотел вам сказать еще, что изобретенная профессором позавчера сыворотка оказалась вполне удовлетворительной. Опыты дали положительные результаты. Арестованные фашисты, которым после прививки вспрыснута чумная сыворотка, не заболели. С завтрашнего дня можно будет организовать массовую прививку. Эпидемию в принципе можно считать ликвидированной.
– Хорошо, очень хорошо. Поздравляю вас, товарищ, – спокойно и отчетливо сказал в трубку П'ан Тцян-куэй. – Известите немедленно по телефону лабораторию в Бельвиле и сообщите им рецепт прививки. Немедленно! Уже сделано? Хорошо! Благодарю вас.
П'ан Тцян-куэй повесил трубку.
Не переставая улыбаться, он всунул себе в рот тонкое блестящее дуло. Зубы, как камертон, зазвенели о холодную сталь. Посаженная крепко между зубами мушка попала во рту на выдолбленное для нее место.
В пустом, ярко освещенном зале института от удивленных торжественных стен странным эхом отлетел грохот выстрела.
* * *
Хоронили П'ан Тцян-куэя с военными почестями, без музыки, в солдатском грохоте барабанов. Тридцать три барабанщика в сиротливом, зловещем соло, как барабанный туш среди умолкшего циркового оркестра в минуту смертельного прыжка, дробью мелькающих палочек прошивали перед ним длинную траурную дорожку. Экстренным декретом народного правительства тело его было освобождено от принудительного сожжения и временно положено в Пантеон.
В центральной части зала, в резном деревянном ларе, покрытом красным флагом, его оставили одного, захлопнув чугунные ворота. Белые без зрачков глаза мраморных фигур, словно расширенные изумлением, смотрели на странного пришельца.
В простом деревянном гробу, на простой парусиновой подушке лежал П'ан Тцян-куэй, прямой и неподвижный, в серых кожаных перчатках и плотно окутанном вокруг шеи шарфе, как будто желал он, чтобы возможно меньшая поверхность его зачумленной кожи непосредственно соприкасалась с прозрачным жизненосным воздухом.
Этой ночью в Париже, серединой Сены, от моста Берси на восток шел небольшой пароход, весь окрашенный в черный цвет, как громадный пловучий катафалк с потушенной свечой трубы. Пароход быстро двигался серединой реки.
На носу, облокотившись на перила, двое людей четырьмя клиньями глаз врезывались во мрак.
На горизонте, точно белая черта, проведенная мелом по черному сукну ночи, сверкала густая полоса света.
– Через три минуты мы будем уже на линии первых огней. Сейчас без пяти двенадцать. Придется две минуты обождать перед линией, – произнес вполголоса один из стоявших.
– Ночь – лучше не придумаешь! Только бы ветер не разогнал туч. Все за то, что нам удастся проехать незамеченными. Обойдите-ка, товарищ, еще раз палубу, – не забыли ли там где-нибудь потушить свет. Да чтобы никто не посмел курить. Ни звука! Подъезжаем.
Товарищ Лаваль должен был на минуту прищурить глаза. Буксир выплывал из-за изгиба. На расстоянии полкилометра река, залитая светом, казалось, горела. Товарищ Лаваль гортанным шепотом бросил в рупор:
– Стоп!
Винты завертелись на месте, и пароход стал как вкопанный. Теперь, по сравнению со стеной света, мрак казался еще темнее и гуще.
Вдали, вправо и влево, тянулась белая черта демаркационной зоны, освещенной прожекторами, словно раскаленная добела полоса железа.
Товарищ Лаваль весь обратился в слух. Прошла длинная, бесконечная минута. Среди невозмутимой тишины откуда-то из города донеслись первые удары бьющих полночь часов. Почти в ту же минуту сзади, из города, раздался первый взрыв, через мгновение – грохот упавшего снаряда, и опять тишина.
– Промах! – зашипел сквозь зубы товарищ Лаваль.
Раз за разом загудели два других выстрела. Через минуту третий, четвертый, пятый. Орудия гремели одно за другим. Вдруг, почти одновременно с грохотом разрывающегося снаряда, рухнула заграждающая реку стена света, и в пролом, словно в воронку, со свистом ринулся мрак. Орудия гремели непрерывно.
– Трогай! – загудел в рупор товарищ Лаваль. Буксир дрогнул, подался вперед и на всех парах помчался в черный туннель мрака. Где-то в отдалении брызнул прожектор, ощупывая молчаливое небо дрожащими, растопыренными пальцами Фомы Неверующего.
Тогда на небе, в ореоле света, показался черный, беспомощно колыхающийся воздушный шар. Почти одновременно выпорхнула навстречу ему серая ракета снаряда.
– Все как по нотам, – пробормотал, потирая руки, товарищ Лаваль. – Теперь немного повозятся с этим, пока не переедем. Ну, р-раз его!
По направлению к воздушному шару одна за другой вылетали в небо стройные ракеты снарядов. Погруженный в мрак Париж отвечал канонадой.
Пароход, как задыхающийся бегун, большими залпами глотал расстояние. Выщербленная стена света демаркационной зоны осталась уже где-то позади. Теперь, справа и слева, берег переливался и мерцал тысячью огней, гудел глухим дуновением тревоги.
Вдруг позади от поцелуя одной из ракет черный, неуклюжий воздушный шар внезапно лопнул красным пузырем пламени и, как громадная ночная бабочка с горящими крыльями, начал падать.
– Рано, черт побери! – присматриваясь к нему, пробормотал товарищ Лаваль. – Теперь, пожалуй, обратят внимание и на нас…
Орудия еще гудели, хотя слабее и реже.