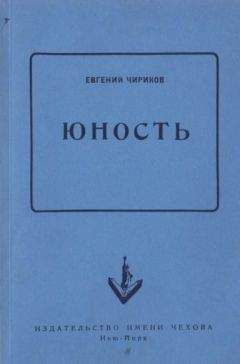— Май. Лежи же, Христа ради…
— Лежу, лежу… Всё лежи да лежи… Надоело уж…
— Скажи — слава Богу, что жив остался… Думали не встанешь совсем.
— Глупо, значит думали… Зоя где остановилась?
— Молчи!
— Не замолчу. Скажи, где!
— У родных.
— Приходила она сюда?
— Каждый день заходит. И сегодня прибегала уж…
— Милая… милая… Она боялась, что я умру…
— Вместе ревели в приемной… Она ничего девушка, нравится мне…
— Вот видишь!.. А ты… Она удивительная… такой больше нет на свете!..
— Перестанешь ты болтать, или мне к доктору итти и пожаловаться?
— Молчу, молчу, мама… А смеяться можно… Это не вредно, а напротив…
— Потихоньку смейся…
Лежу и смеюсь. Не знаю, чему смеюсь… Всё смешно: и рука у меня смешная, и ноги очень длинные, как у покойника, и прическа у мамы смешная… И фельдшерица курносая — нельзя смотреть на нее без смеха…
— Ну, будет уж!.. Посмеялся и довольно…
— Это невозможно… Ей-Богу!.. Уморительно!.. А какой сегодня день?
— Ей-Богу, я сейчас пойду к доктору…
— Молчу, молчу, мамочка… Ябеда ты какая… сутяга!..
— Кушайте!
— Опять — манная каша!.. С первого дня началась эта каша…
— Не капризничай!
— Когда же дадут курицу?
— На обед.
А всё-таки вкусная каша, душистая. А посреди — лужица из растопившегося желтого масла. Даже слюнки потекли.
— А ложку!.. Забыли ложку!..
— Извините, сейчас подам…
Смешная, курносая… Похожа немного на Веру Игнатович. Где-то теперь Вера и Касьянов?.. Живо съел кашу, выскоблил дочиста тарелку, а есть всё хочется.
— Вот вам молоко.
— Весьма и очень, сестрица милосердная, признателен…
— Я не сестра, а фельдшерица…
— Ну, всё равно.
— Всё равно, да не одно.
Поел, попросил зеркало и стал смотреть на себя: худущий, глаза ввалились… Ба, усы как выросли! Не ожидал.
— Мама, посмотри, как у меня выросли усы… Можно закрутить…
— Еще бы: жених!
— Не затворяй окна!
— Не дует?
— Нисколько. Должно быть, там сад. Как весело распевают птицы…
— Молчи и слушай.
Симбирск… Я в Симбирске. Как-то чувствуется другой город. Я очень люблю Симбирск. Он на высоких зеленых горах, тихий такой, ленивый, очень похож на старосветского помещика. А главное, — это — Зоин город, и теперь в этом городе Зоя. Это чувствуется, что она теперь в этом городе. Ах, скорей, скорей, беги, время, и приближай меня к Зое! Я так соскучился по ней, так соскучился, что готов соскочить с кровати и помчаться разыскивать ее. Как вспомню, что завтра или послезавтра увижу Зою, обольется сердце кровью и хочется хохотать во всё горло, хохотать, хохотать и болтать ногами… Воображаю, как в эту дверь войдет девушка в белом платье и вскрикнет от радости… Лучше, если бы в этот момент мы были одни…
— Мама, когда придет Зоя, ты нас оставишь не надолго одних?
— Надо спросить доктора…
— У тебя — всё доктор!.. Шагу не ступишь без доктора. Неужели ты не понимаешь, что…
— Пожалуйста, доктор велел издали.
— Нам надо поговорить о многом наедине.
— Скажите пожалуйста!..
— Красива она? Правда?
— Худущая, как и ты…
— А какие у ней чудные волосы!
— Что-то уж больно много их… Свои ли у ней волосы?
— Ну, вечно с подозрениями… Ничему хорошему не желаете верить.
— Теперь так фокусничают девицы, что не узнаешь.
— У ней толстые косы, золотые…
— А ты взвешивал?
— Да, взвешивал.
— Теперь она в прическе.
— В прическе!..
— Целая копна на голове.
Зоя в прическе!.. Это смешно, ужасно смешно… Интересно, как она выглядит в прическе. Милая!.. Целая копна волос…
— Узлом, мама?
— Чего узлом?
— Да волосы-то!.. Бестолковая какая…
— Узлом, узлом… Теперь у всех узлом.
— Это очень красиво!
— А мне не нравится…
— Ты ничего не понимаешь.
— У меня были волосы до колен.
— Мало ли что было… А теперь вылезли.
— С вами вылезут… Погоди вот, женитесь, пойдут дети, — и твоя Зоя начнет… и зубы станут болеть, и волосы вылезать…
— У нас не скоро будут дети. Мы… понимаешь, мы решили лет пять жить, как… ну, понимаешь… как брат с сестрой. Дети мешают общественной деятельности…
— А ну вас… не болтай пустяков!
— Потрудитесь вставить термометр?
— Опять термометр?
— Да, пора уж…
— Надоел ваш термометр…
— Ставь, ставь!..
Поставил под мышку термометр, лежу, смотрю в потолок и рисую себе Зою в прическе… Гм!.. смешно…
— Сколько?
— 37,2.
— Ну, вот, оболтался… Повысилась…
— Больше не буду… Это пустяки…
Я притих. Убедился, что болтать вредно, и стал бояться, как бы повышение температуры не отдалило нашего свидания с Зоей. Сделался кротким и послушным. Опять стал смотреться в зеркало, находил, что худоба меня не испортила, а совсем напротив, еще более сделала похожим на какого-то писателя. Гм!.. «Что ни говори, а в моей физиономии есть что-то писательское»… Так и уснул с зеркальцем в руке.
XXXVI
Ликуйте, земля и небо: сегодня ко мне придет Зоя!..
— Сколько времени, мама?
— Десять било.
— Давно?
— Только сейчас пробило. Неужели не слыхал?
— Странно: не слыхал. А может-быть одиннадцать?
— Десять. Рано спустил ноги: устанешь. Она приедет в одиннадцать.
— Еще час. Целый час!
Не знаю, что делать. Разрешили смотреть в старой «Ниве» картинки, да надоели эти картинки. Рассматриваю в пятый раз. Буду разгадывать ребусы. Устают руки держать тяжелую книгу: этой книгой можно убить читателя. Трясутся еще от слабости руки… Устаешь… Пожалуй, лучше пока полежать.
— Мама, возьми эту пудовую книгу.
— Вот видишь! Говорила тебе, — рано сел.
Лежу во всем чистом, волосы рассыпались по подушке, одеяло лежит ровно и красиво; руки наверху, на одеяле, белые, с длинными кистями. Слушаю, как стукают в коридоре стенные часы, как за окном поют птицы, как свистят на Волге пароходы, как время от времени трещат где-то близко извозчичьи пролетки. Пугают эти пролетки: всё кажется, что кто-то подъехал к больнице, что этот «кто-то» — Зоя; вздрогнешь, сядешь в кровати и насторожишься. А сердце застучит громко и неровно.
— Ты что?
— Погоди, кто-то подъехал… Нет, показалось…
— Да ведь мимо не проедет. Чего же так беспокоиться!
Уф, даже в жар бросило…
— Мама, дай мне чистый носовой платок!.. И гребенку.
Какая, однако, шевелюра выросла. Хорошо, если бы волосы вились большими волнами, как у Калер… Ну ее к лешему! Покраснел, отбросил зеркало… Святотатством казалось самое произнесение этого имени… Словно грязнил чем-то свой светлый праздник…
— Мама, теперь уже не христосуются?
— Вот тебе раз! Шесть недель христосуются. Что ты, татарин, что ли?
— Забыл. Едет, едет… Она, мама… Зоя!.. Чувствую, чувствую…
— Да погоди…
Мама идет к окну. Протяжно бьют где-то часы одиннадцать.
— Одиннадцать!.. Она!..
— Да, она… Пойду встретить…
Мать вышла из палаты. Что делать?.. Лечь или сидеть?.. Господи, что это со мной! То жарко, палит лицо огонь, то холодно, так холодно, что стучат зубы… Забыл сегодня почистить зубы… Опять звонят в ушах стеклянными молоточками. Лучше лечь… Нет сил сидеть и ждать… Лег лицом к двери и жду в огне и трепете. Идут! Идут!..
— Можно? — прозвучал за дверью голос и ударил меня прямо в сердце.
— Можно, можно… Зоя!
Распахнулась дверь, и на пороге приостановилась стройная, высокая девушка, вся в белом, в пастушеской соломенной шляпе с загнутой голубенькой вуалеткой, с синими васильками и бело-желтыми ромашками, под шляпой тяжелая груда золотых волос, в одной руке перчатки и кружевной зонтик, в другой — куст белой сирени… Словно сама весна в ослепительном сиянии вошла с цветами родных полей и садов.
— Зоя! — прошептал я упавшим, не своим голосом, сел в постели и протянул к девушке руки.
Вспыхнуло розами милое лицо, схватилась милая рука за грудь, опрокинулась голова…
— Иди же, голубка!..
Рванулась от двери, упала на колени около постели и, спрятав свою голову у меня на груди, стала смеяться и плакать…
— Да погоди же, дай мне посмотреть на тебя…
Я хотел откинуть ее голову, а она не давалась и продолжала плакать. Я вытащил колючую булавку, сбросил шляпу с васильками и потонул губами в мягком, душистом и щекочущем золоте волос… А куст белой сирени валялся на полу и источал одуряющий аромат…
— Милый, милый… Я уже думала, что никогда… никогда больше не увижу!..
Кто-то сердито покашлял у двери. Зоя поднялась на ноги и, отскочив к окну, отвернулась и застыла в неподвижности.