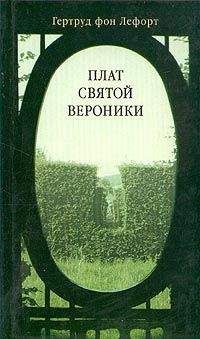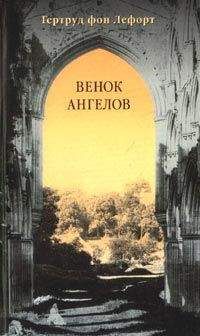Бабушка и теперь еще героически продолжала играть роль единомышленника Госпожи Облако. Она всегда была полна сочувствия к бедной матери и готова была простить ей любую оплошность и безоговорочно признать за ней ее заслуги и самоотверженность. Но за последнее время она побледнела, черты ее заострились, роскошная величавость ее фигуры и ее движений исчезли, уступив место странной, болезненной грации и хрупкости, которые не на шутку встревожили меня.
В те дни, когда можно было ожидать опасных осложнений болезни, она все время проводила перед дверью комнаты Энцио, на маленькой площадке, в довольно своеобразном помещении, украшенном менее ценными картинами и солидной, но неудобной мебелью, как это часто бывает в комнатах, не предназначенных для длительного времяпрепровождения. Там бедная бабушка сидела час за часом на старинном флорентийском сундуке, не имея возможности даже облокотиться и расслабить свою уставшую спину, с тревогой прислушиваясь к голосам за дверью, и ждала, когда из комнаты выйдет доктор, который теперь бывал у нас по нескольку раз на день, ибо это был ее единственный шанс узнать что-нибудь достоверное о состоянии Энцио.
Я в эти дни чаще всего сидела подле нее на маленькой скамеечке, такой же неудобной, как и флорентийский сундук. Но я любила это орудие самоистязания, потому что оно давало мне возможность сидеть у ног бабушки и дарить ей свою благоговейную любовь, которой, как мне казалось, ей так остро недоставало – ей, оказавшейся в роли смиренного просителя в стенах своего собственного дома. Правда, мне не давало покоя опасение, что она прочтет мои мысли. Но она думала, что я просто беспокоюсь об Энцио. Это так и было, хотя и в меньшей мере, чем она полагала: я не могу припомнить, чтобы в то время, даже в самые тревожные дни, я хотя бы раз подумала о возможности серьезных последствий; я все еще, несмотря на гибель отца, не могла представить себе смерть. А между тем ее призрак уже грозно стоял перед нашей дверью!
Несколько раз мы даже не ложились ночью спать, и, так как воздух в доме был горяч и душен, нам приходилось открывать окно на площадке перед комнатой Энцио, хотя бабушка явно страдала от этого. Ибо окно выходило не на пьяцца Минерва или во внутренний двор, а в крохотный задний дворик, под которым, как нам говорили, когда-то располагался один из склепов кладбища при церкви Санта Мария сопра Минерва. Бабушка утверждала, что оттуда особенно ощутимо поднимается наверх тот тонкий запах смерти, из-за которого она не любила ночной воздух Рима, этого гигантского склепа под открытым небом. Жаннет, добрая душа, навещала нас время от времени на нашей площадке, нюхала воздух, стоя у окна, и жаловалась на запах «гниющих овощей», будто бы сваленных кем-то внизу у стены. Я ничего не чувствовала и в конце концов начала подтрунивать над Жаннет, пока она не подала мне знак, чтобы я замолчала. Но бабушка уже все поняла.
– Дети, – сказала она, – не пытайтесь ввести меня в заблуждение: мне ведь все равно надо привыкать к этому.
Жаннет это замечание страшно испугало. Но вскоре, когда болезнь Энцио начала отступать, мы позабыли про него.
Энцио медленно, после нескольких опасных осложнений, оправился настолько, что необходимость его изоляции от внешнего мира отпала. Госпожа Облако предложила бабушке навестить больного, то есть, как я заметила, внутренне дрожа от гнева, милостиво позволила ей это сделать. Я утешала себя надеждой на то, что Энцио теперь сам позаботится о возвращении бабушке ее прежних прав. Я давно уже рассматривала дерзкую непочтительность, проявленную им по отношению к ней, как симптом его болезни и того ужасного состояния, в которое она его повергла.
Энцио, несомненно, обрадовался нашему появлению, и все же он теперь вел себя с нами иначе. Уже по приветствию было видно, как смущает его присутствие матери, – как будто он не хотел показать ей, насколько мы стали ему близки. Я замкнулась и не произносила больше ни слова, бабушка не подавала вида, что удивлена, – она, заметно похудевшая и как бы утопающая в своем теперь очень свободном складчатом платье, сидела в такой величественной позе, что никому и в голову бы не пришло искать на ее лице следы каких-то скрытых чувств. Впрочем, на нем и нельзя было обнаружить никаких чувств, кроме радости: она была так рада выздоровлению Энцио, что больше ничего не замечала. Однако она недолго пробыла у него, и еще до того, как она ушла, мне все время казалось, что ей уже хочется откланяться, а этого с бабушкой никогда прежде не бывало: она всегда точно знала, когда ей пора уходить, и уходила ни минутой раньше, ни минутой позже.
Энцио не попросил ее посидеть еще немного. Она, прощаясь, задержала его ладонь в своей руке немного дольше обычного и сказала:
– Дорогой мой друг, я бесконечно благодарна судьбе за этот день!
– Да, – ответил он, – моя бедная матушка совсем измучилась со мной…
С этого дня мы довольно часто навещали его. Прежде чем впустить нас, Госпожа Облако каждый раз просила бабушку не заводить с ее сыном «ученых разговоров», так как это будто бы его утомляет. И вообще, он нормально переносит эти «ученые разговоры», лишь когда совершенно здоров, поясняла она. И пока мы сидели у Энцио, она обычно ходила по комнате взад-вперед, как солдат на часах, не участвуя в беседе; я не могла избавиться от ощущения, как будто она следит за тем, чтобы мы вели себя сообразно с ее требованиями. Ощущение это затем не раз подтверждалось, так как после визита она иногда делала нам легкий выговор за то, что в беседе с Энцио мы затронули ту или иную запретную тему. Однако время от времени Госпожа Облако неожиданно прерывала беседу и просто-напросто запрещала неугодную ей тему. Почти всегда это была одна и та же тема, которой бабушка и сама – только со свойственной ей тонкостью и осторожностью, – стремилась избежать; но даже и без этого вмешательство Госпожи Облако казалось мне совершенно излишним, ибо, как я объясняла это себе, она уже одним своим появлением мгновенно обращала дух в бегство.
Но еще больше, чем Госпожа Облако, меня раздражал в такие минуты сам Энцио. В подобных конфликтах он никогда не принимал сторону бабушки, хотя это вовсе не она направляла разговор в те области, которые Госпожа Облако имела в виду, употребляя собирательное выражение «ученые разговоры», а его собственные лихорадочно-беспокойные мысли. Он даже не пытался выступать в роли посредника, хотя часто мог легко успокоить свою матушку.
Я помню, как он однажды в очередной раз коснулся понятия «жизни». Бабушка обычно всегда протестовала, когда он, говоря о «жизни», видел в ней высшую благодать или даже Божественное начало, ибо, как она говорила, ее еще крестили водой идеализма, а именно – во имя духа, а не только во имя силы, на что Энцио, конечно же, не раз отвечал: старый идеализм в действительности – это всего-навсего обыкновенное крещение водой. Но в этот раз она лишь невозмутимо заметила, что это благоговение современных людей перед жизнью объясняется тем, что они, несмотря на всю их науку и технику, не в состоянии сами создать даже одну-единственную крохотную живую мышь.
– Я и вправду предпочла бы, чтобы они научились делать мышей, – прибавила она, – лишь бы они избавились от этого наивного благоговения перед жизнью!
Но даже эта маленькая шутка, которой бабушка просто хотела немного развеселить больного, не помешала Госпоже Облако предостерегающе приложить палец к губам, а Энцио, вместо того чтобы поддержать бабушку одобрительным смехом, промолчал.
«Он никогда не выступает на ее стороне, он отрекается от нее где только может», – думала я, и сердце мое рвалось на части от любви и гнева, ибо, несмотря на то что нимб, которым окружило Энцио мое восхищение, все больше тускнел, нежность моя к нему не иссякала – напротив, она почти помимо моей воли обрела, именно благодаря его слабости, нечто болезненно-безусловное. Я в равной мере страдала от нее, как и от любви к бабушке, и думала, что Энцио знает об этом. Мы все еще мало говорили друг с другом, но я видела это по его глазам: иногда, когда бабушка, проведав его, собиралась уходить, он глазами просил меня остаться; я же никогда не откликалась на его призыв – пусть сначала изменит свое поведение! А он не менял его, и постепенно я с ужасом заметила, что бабушка страдает от этого. Ее блестящий талант собеседника, острота ее ума, все ее маленькие прелестные шутки-молнии, ее искрометное обаяние в присутствии Энцио все больше и больше сходили на нет, и мы вдруг впервые почувствовали, что она стара и нуждается в бережно-чутком отношении и снисходительности окружающих. Казалось, словно та нежная воздушность, которую за последние недели обрело ее тело, распространяется на все ее существо и сообщает ей некую едва уловимую неуверенность, в которой я с испуганным изумлением увидела глубокое разочарование в не оправдавшей ее надежд дружбе.