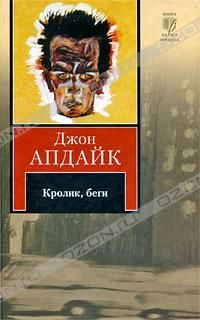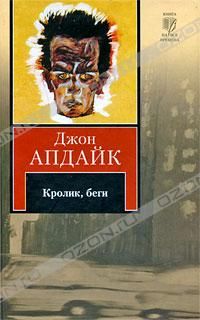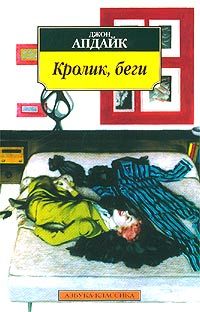Мэри Энн. Усталый и напряженный, но полный ленивой мощи после игры, он находил ее на ступенях парадного входа школы, и сквозь белый ноябрьский туман они шли по прелым листьям к автомобилю его отца и уезжали куда-нибудь, чтобы включить отопитель и остановиться. Ее тело — ветвистое дерево, полное теплых гнезд, но всегда это ощущение робости. Словно она не уверена в себе, а он гораздо больше ее, он — победитель. Он являлся к ней победителем, и этого чувства ему потом всегда недоставало. Точно так же и она была лучше всех, потому что ей он отдавал больше, чем другим, отдавал несмотря на усталость. Порою слепящий свет в гимнастическом зале сгущался в его горящих от пота глазах в смутное предвкушение осторожных прикосновений, которые ожидали их под мягкой серой крышей автомобиля, и, стоило им очутиться там, яркие отблески только что окончившейся игры вспыхивали на ее гладкой коже, расчерченной тенями дождевых струй на ветровом стекле. Поэтому обе эти победы в его мыслях слились воедино. Она вышла замуж, когда он был в армии; постскриптум в письме матери столкнул его с берега. С того дня он поплыл по воле волн.
Но теперь он ощущал радость; от сидения в кресле с истертыми хромированными подлокотниками все его тело затекло, его тошнит от сигарет, но он чувствует радость, вспоминая свою девушку, и кровь его сердца изливается в большую тонкую вазу радости, которую голос Экклза толкает и разбивает.
— Я прочел статью Джеки Дженсена от начала до конца, но так и не понял, что он хотел сказать, — говорит Экклз.
— Что?
— Статью Джеки Дженсена о том, почему он намерен бросить бейсбол. Насколько я мог понять, проблемы у бейсболиста те же, что и у священнослужителя.
— Не пора ли вам домой? Который час?
— Около двух. Я бы хотел остаться, если вы не против.
— Не бойтесь, я не сбегу.
Экклз смеется и продолжает сидеть. Первое впечатление, которое он произвел на Гарри, было упорство, и теперь все, что он узнал о нем за время их дружбы, стерлось, и он снова вернулся к тому же.
— Когда бедняжка рожала Нельсона, это тянулось двенадцать часов, говорит ему Кролик.
— Вторые роды обычно бывают легче, — говорит Экклз, глядя на часы. Еще и шести не прошло.
События подгоняют друг друга. Из комнаты для привилегированных посетителей выходит миссис Спрингер; она чопорно кивает Экклзу и, краем глаза заметив Гарри, спотыкается на своих больных ногах в стоптанных черно-белых туфлях. Экклз встает и вместе с нею выходит из дверей. Через некоторое время они оба возвращаются вместе с мистером Спрингером, одетым в свежевыглаженную рубашку с крошечным узелком галстука. Он так часто подстригал свои песочные усики, что верхняя губа как-то съежилась.
— Хелло, Гарри, — говорит он.
Это признание существования Гарри со стороны ее мужа, несмотря на беседу, которую, несомненно, провел с ними Экклз, заставляет старуху повернуться к Гарри и злобно сказать:
— Если вы, молодой человек, сидите тут, как стервятник, в надежде, что она умрет, можете с таким же успехом отправляться туда, откуда явились, потому что она прекрасно обходилась и дальше обойдется без вас.
Спрингер с Экклзом поспешно уводят ее, а старая монахиня, глядя на них, как-то странно улыбается из-за своего стола. Может, она глухая? Выпад миссис Спрингер, хоть она и всячески старалась его оскорбить, был первым высказыванием, которое хоть в какой-то степени соответствовало чудовищному событию, совершающемуся где-то за стеной больничного запаха мыла. До ее слов ему казалось, будто он остался один на мертвой планете, вращающейся вокруг газообразного солнца родовых мук Дженис; ее крик, пусть это был даже крик ненависти, прорвал его одиночество. Жуткая мысль о смерти Дженис, облеченная в слова, сразу утратила половину своей тяжести. От Дженис исходило странное дыхание смерти — миссис Спрингер тоже его ощутила, и то, что он разделил его с ней, кажется ему самой драгоценной связью, какая есть у него с кем-либо в целом мире.
Мистер Спрингер возвращается, проходит через холл к выходу, одарив своего зятя болезненно-сложной улыбкой, которая состоит из желания извиниться за жену (мы ведь с вами мужчины), желания держаться подальше (тем не менее вы вели себя непростительно, не трогайте меня) и машинального рефлекса вежливости, свойственного торговцу автомобилями. Ах ты ничтожество, думает Гарри, швыряя эту мысль в сторону закрывшейся двери, ах ты холуй. Куда все они идут? Откуда приходят? Почему никто не может отдохнуть? Экклз возвращается, дает ему еще одну сигарету и снова уходит. От сигареты у него начинается дрожь в желудке. В горле ощущение, какое бывает, когда проспишь всю ночь с открытым ртом. Его собственное зловонное дыхание время от времени ударяет ему в нос. Доктор — грудь колесом и невообразимо крошечные мягкие ручки, сложенные перед карманом халата, — неуверенно входит в холл.
— Мистер Энгстром? — обращается он к Гарри. — Я доктор Кроу.
Гарри никогда его не видел; их первого ребенка принимал другой акушер, но те роды были тяжелыми, и ее папаша определил Дженис к этому врачу. Она ходила к нему раз в месяц и без конца рассказывала, какой он деликатный, какие у него мягкие руки и как он тонко понимает чувства беременной женщины.
— Поздравляю. У вас прелестная дочурка.
Он так поспешно протягивает Гарри руку, что тот даже не успевает как следует встать и потому поглощает эту новость в полусогнутом состоянии. Надраенная розовая физиономия доктора — стерильная маска развязана и свисает с уха, открывая бледные мясистые губы, — расплывается, когда Кролик пытается придать цвет и форму неожиданному слову «дочь».
— Да? Все в порядке?
— Семь фунтов десять унций. Ваша жена все время была в сознании и после родов на минутку взяла на руки младенца.
— Что вы говорите? Взяла на руки? Как она… ей было очень тяжело?
— Не-ет. Все прошло нормально. Вначале у нее были спазмы, но потом все шло нормально.
— Это замечательно. Большое спасибо. О Господи, большое вам спасибо.
Кроу стоит рядом с ним, улыбаясь неуверенной улыбкой. Поднявшись из бездны мирозданья, он запинается на открытом воздухе. Как странно последние несколько часов он был к Дженис ближе, чем когда-либо бывал сам Гарри, он копался в самых ее корнях, но не вынес оттуда ни тайны, ни проклятья, ни благословения. Гарри в ужасе ждет, что глаза доктора сейчас начнут метать молнии, но во взоре Кроу нет никакого гнева. Нет даже упрека. Очевидно, Гарри для него лишь еще один в бесконечной процессии более или менее исполненных чувства долга мужей, чье бездумно брошенное семя он всю жизнь пытается пожать.
— Можно мне ее увидеть? — спрашивает Гарри.
— Кого?
Кого? То обстоятельство, что отныне слово «она» приобрело второе значение, пугает Гарри. Мир усложняется.
— Мою… мою жену.
— О, конечно, разумеется. — Мягкий и вежливый Кроу как будто даже удивлен, что Гарри спрашивает у него разрешения. Он, безусловно, все знает, но, очевидно, забыл о пропасти вины, которая разверзлась между Гарри и человечеством. — Я подумал, что вы говорите о девочке. Я предпочел бы, чтобы вы подождали до завтра, когда будут приемные часы, сейчас нет сиделки, которая могла бы вам ее показать. Но ваша жена в сознании, я вам уже говорил. Мы дали ей дозу экванила. Это всего лишь транквилизатор. Мепробомат. Скажите, — он тихонько подвигается к Гарри, весь в розовой коже и чистой ткани, — вы ничего не имеете против, если к ней на минутку зайдет ее мать? Она всю ночь морочила нам голову. — Он просит его, его беглеца, прелюбодея, чудовище. Он, наверно, слепой. Но может, когда человек становится отцом, все готовы его простить, ибо это, в сущности, единственное, ради чего мы живем на земле.
— Конечно. Пусть идет.
— До вас или после?
Гарри колеблется, но вспоминает, как миссис Спрингер посетила его на его пустой планете.
— Можно и до меня.
— Благодарю вас. Прекрасно. После этого она сможет уехать домой. Мы ее сразу же выставим. Все займет не больше десяти минут. Вашу жену сейчас готовят сиделки.
— Отлично. — Гарри садится, чтобы показать, какой он послушный, но тут же снова встает. — Спасибо. Большое вам спасибо. Не понимаю, как вы, врачи, все это делаете.
— Она вела себя молодцом, — пожимает плечами Кроу.
— Когда она рожала первого, я от страха чуть не спятил. Это длилось целую вечность.
— Где она рожала?
— В другой больнице. У гомеопатов.
— Угу. — И доктор, который спускался в преисподнюю и не принес оттуда грома, мечет искру презрения при мысли о больнице-конкуренте, энергично качает надраенной головой и, продолжая ею качать, удаляется.
Экклз входит в комнату, ухмыляясь, как школьник, но Кролик не может сосредоточить внимание на его глупой физиономии. Он предлагает устроить благодарственный молебен, и Кролик тупо кивает. Ему кажется, что каждый стук его сердца расплющивается о широкую белую стену. Когда он поднимает глаза, ему чудится, будто все предметы до того полны жизни, что вот-вот оторвутся от земли. Его счастье — лестница-стремянка, с верхней ступеньки которой он старается прыгнуть еще выше — потому что так надо.