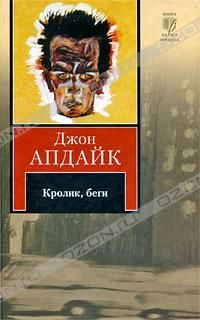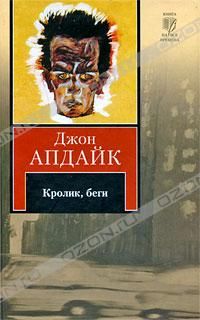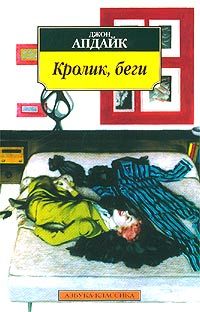— Она вела себя молодцом, — пожимает плечами Кроу.
— Когда она рожала первого, я от страха чуть не спятил. Это длилось целую вечность.
— Где она рожала?
— В другой больнице. У гомеопатов.
— Угу. — И доктор, который спускался в преисподнюю и не принес оттуда грома, мечет искру презрения при мысли о больнице-конкуренте, энергично качает надраенной головой и, продолжая ею качать, удаляется.
Экклз входит в комнату, ухмыляясь, как школьник, но Кролик не может сосредоточить внимание на его глупой физиономии. Он предлагает устроить благодарственный молебен, и Кролик тупо кивает. Ему кажется, что каждый стук его сердца расплющивается о широкую белую стену. Когда он поднимает глаза, ему чудится, будто все предметы до того полны жизни, что вот-вот оторвутся от земли. Его счастье — лестница-стремянка, с верхней ступеньки которой он старается прыгнуть еще выше — потому что так надо.
Фраза Кроу насчет того, что сиделки «готовят» Дженис, звучала странно, словно речь шла о королеве мая <самая красивая девушка, избранная королевой майского праздника (народный праздник в первое воскресенье мая), коронуется венком из цветов>.
Когда его ведут к ней в палату, он ожидает увидеть у нее в волосах ленты, а на спинках кровати венки из бумажных цветов. Но перед ним всего лишь прежняя Дженис на высокой металлической кровати между двумя гладкими простынями. Она поворачивает к нему лицо и говорит:
— Смотрите-ка, кто пришел.
— Привет, — говорит он и подходит ближе, чтоб ее поцеловать, намереваясь сделать это очень нежно. Он наклоняется к ней, как к стеклянному цветку. Из ее рта несется сладкий запах эфира. К его удивлению, она выпрастывает руки из-под простыни, берет его за голову и прижимает лицом к своему мягкому, полному эфира рту.
— Осторожно, — говорит Кролик.
— У меня нет ног, — сообщает она. — Так смешно.
Волосы ее собраны в тугой больничный узел, на лице никакой косметики. Маленькая голова темнеет на подушке.
— Нет ног? — Он смотрит вниз и видит, что она лежит под простыней, плоско вытянувшись неподвижной буквой V.
— Под конец мне дали спинномозговую анестезию, или как она там у них называется, и я ничего не чувствовала. Я просто лежала и слушала, как они говорили «жмите», а потом вдруг вижу: малюсенькая сморщенная девчонка лицо круглое, как луна, — злобно на меня смотрит. Я сказала маме, что она похожа на тебя, но она и слушать не хочет.
— Она на меня накричала.
— Я не хотела, чтоб ее пускали. Я не хотела ее видеть. Я хотела видеть тебя.
— Меня? Почему, детка? После того, как я был такой свиньей.
— Ничего ты не был. Мне сказали, что ты тут, и я все время думала, что это твой ребенок, и мне казалось, что я рожаю тебя. Я так наглоталась эфира, мне кажется, я куда-то лечу, а ног у меня нет. Мне все время хочется говорить. — Она кладет руки на живот, закрывает глаза и улыбается. — Я совсем пьяная. Смотри, какая я плоская.
— Теперь ты можешь надеть тот купальник, — с улыбкой говорит он и, вступив в течение ее пропитанной эфиром болтовни, начинает чувствовать себя так, словно у него тоже нет ног и он, легкий, как пузырь, незадолго до рассвета плывет на спине по огромному морю чистоты среди накрахмаленных простыней и стерильных поверхностей. Страх и сожаление растворились, а благодарность так раздулась, что у нее уже нет острых углов. — Доктор сказал, что ты молодец.
— Что за чушь. Ничего подобного. Я вела себя ужасно. Вопила, орала, чтоб он не давал воли рукам. Но хуже всего, когда эта страшная старая монахиня начала брить меня сухой бритвой.
— Бедняжка Дженис.
— Нет, это было здорово. Я хотела сосчитать, сколько у нее пальцев на ногах, но у меня так кружилась голова, что я не могла, и потому стала считать, сколько у нее глаз. Оказалось, два. Мы хотели девочку? Скажи, что хотели.
— Да, я хотел. — Он вдруг понял, что это правда.
— Теперь у меня будет союзница против вас с Нельсоном.
— Как поживает Нельсон?
— У-у, он целыми днями только и делал, что твердил: папа сегодня придет? До того мне надоедал, что я готова была выпороть его ремнем, бедняжку. Не напоминай мне, это слишком тяжело.
— Ах, черт, — говорит он, и слезы, о существовании которых он не подозревал, обжигают ему переносицу. — Я сам не верю, что это был я. Не знаю, почему я ушел.
Она глубже зарывается в подушку, и широкая улыбка раздвигает ей щеки.
— У меня родился ребеночек.
— Это здорово.
— Ты такой красивый. Высокий. — Она говорит с закрытыми глазами, и когда она их открывает, они до краев наполнены какой-то мыслью; он никогда не видел, чтобы они так сверкали. Она шепчет:
— Гарри, моя соседка, что лежала на той кровати, сегодня уехала домой, и ты потом потихоньку проберись сюда, влезь в окно, и мы будем всю ночь лежать и рассказывать друг другу разные истории. Ладно? Как будто ты вернулся из армии или еще откуда-нибудь. У тебя было много женщин?
— По-моему, тебе сейчас надо лечь и уснуть.
— Ну и ладно, зато теперь ты будешь меня больше любить. — Она хихикает и пытается пошевелиться. — Нет, я ничего не хотела сказать дурного, ты хороший любовник, ты дал мне ребеночка.
— Ты что-то уж слишком шустрая, тебе сейчас нельзя и думать о таких вещах.
— Это ты так считаешь. Я бы пригласила тебя со мной полежать, но кровать такая узкая. Ууу-у!
— Что?
— Мне ужасно хочется лимонада.
— Какая ты смешная.
— Это ты смешной. А девчонка так злобно на меня смотрела.
Монахиня заполняет своими крыльями дверной проем.
— Мистер Энгстром. Пора.
— Иди поцелуй меня, — говорит Дженис. Она касается его лица, и, наклонившись, он снова вдыхает запах эфира; рот у нее как теплое облачко, он вдруг раскрывается, и она кусает его нижнюю губу. — Не уходи.
— Я ненадолго. Я завтра опять приду.
— Люблю тебя.
— Слушай. Я тебя люблю.
Экклз ждет его в холле.
— Ну как она?
— Прекрасно.
— Вы вернетесь туда… мм-м… туда, где вы были?
— Нет, — в ужасе отвечает Гарри. — Ни в коем случае. Я не могу.
— Может, хотите поехать ко мне?
— Послушайте, с вас уже и так довольно. Я могу пойти к родителям.
— Сейчас слишком поздно их будить.
— Нет, я не могу доставлять вам столько хлопот. — Он уже решил принять приглашение. Все кости у него как ватные.
— Никаких хлопот, я ведь не предлагаю вам навсегда у нас поселиться, говорит Экклз. Долгая ночь начинает действовать ему на нервы. — У нас масса места.
— О'кей. О'кей. Хорошо. Спасибо.
Они возвращаются в Маунт-Джадж по знакомому шоссе. В этот час оно пусто, нет даже грузовиков. Хотя стоит глухая ночь, небо не черного, а какого-то странного серого цвета. Гарри молча смотрит в ветровое стекло; у него застыло тело, застыла душа. Извилистое шоссе кажется большой, широкой, прямой дорогой, которая перед ним открылась. Он ничего не хочет только идти по ней вперед.
Пасторат спит. Экклз ведет его наверх, в комнату, где стоит кровать с кисточками на покрывале. Он тихонько прокрадывается в ванную, потом, не снимая нижнего белья, свертывается клубочком под шуршащими чистыми простынями, стараясь занимать как можно меньше места. Лежа на краю кровати, он уходит в сон, как черепаха в панцирь. В эту ночь сон — не темное призрачное царство, которое должен завоевать его бодрствующий дух, а пещера внутри него самого, куда он заползает, слушая, как дождь, словно медведь, когтями скребется в окно.
* * *
Солнечный свет, старый шут, до краев наполняет комнату. Два розовых кресла стоят по обеим сторонам завешанного тюлем окна, льющийся из него свет словно маслом намазал лохматый от конвертов письменный стол. Над столом портрет дамы в розовом, которая идет прямо на зрителя. В дверь стучится женский голос:
— Мистер Энгстром. Мистер Энгстром.
— Да, да, — хрипло отзывается он.
— Уже двадцать минут первого. Джек велел вам передать, что приемные часы в больнице от часу до трех. — Он узнает бойкий, щебечущий голосок жены Экклза. Она закругляет фразу так, словно вот-вот добавит: какого черта вам надо в моем доме?
— Да? О'кей. Я сейчас.
Он натягивает брюки цвета какао, которые были на нем вчера, берет с собой в ванную с неприятным ощущением, что все грязное, туфли, носки и рубашку и, откладывая минуту, когда придется надеть их на себя, дает им еще немножко проветриться. Все еще заспанный, хоть и набрызгал воды куда только мог, он выносит их из ванной и спускается вниз босиком и в майке.
Маленькая жена Экклза ждет его в своей большой кухне. На этот раз она в шортах цвета хаки, из босоножек выглядывают накрашенные ногти.
— Как вы спали? — спрашивает она из-за дверцы холодильника.
— Мертвым сном. Даже снов не видел.
— Вот что значит чистая совесть, — говорит она и с элегантным звоном ставит на стол стакан апельсинового сока. Ему показалось, что, увидев его в одной майке, она быстро отвернулась.