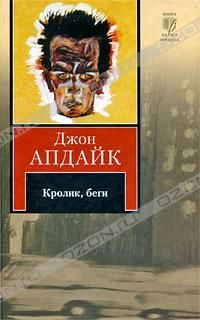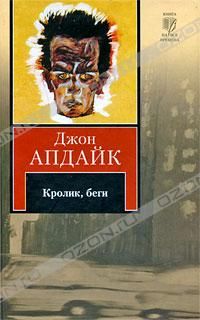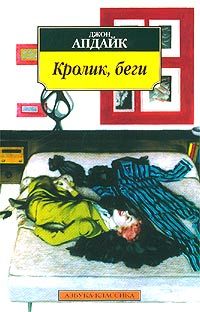— Вы — бывший ученик Марти. Я — Гарриет Тотеро. Вы однажды у нас обедали, я сейчас вспомню, как вас зовут.
Да, конечно, но он помнит ее не потому, что там обедал, а потому, что встречал ее на улице. Большинству старшеклассников в Маунт-Джадже было известно, что Тотеро бегает за женщинами, и их невинному взору жена его представлялась ходячей жертвой в венце темного пламени, живой тенью греха. Ее выделяли не столько из жалости, сколько из какого-то нездорового любопытства, — сам Тотеро был таким пустомелей и шутом, что последствия его поступков сходили с него как с гуся вода. Зато его высокая серебристая суровая жена аккумулировала все его прегрешения, и от нее исходил электрический разряд, который поражал их юные умы и заставлял в смущении и страхе отводить от нее глаза. Гарри встает, с удивлением осознавая, что мир, в котором она живет, стал теперь и его миром.
— Меня зовут Гарри Энгстром, — говорит он.
— Да, да, припоминаю. Он так гордился вами. Он часто о вас говорил. Даже недавно.
Недавно. Что он ей сказал? Знает ли она о его делах? Осуждает ли его? Длинное лицо школьной учительницы, как всегда, хранит свои тайны.
— Я слышал, что он болен.
— Да, он болен, Гарри. Тяжело болен. У него было два удара, один уже после того, как он попал в больницу.
— Он здесь?
— Да. Хотите его навестить? Он будет очень рад. Всего на минутку. У него бывает очень мало народу; я думаю, что в этом трагедия школьного учителя. Ты помнишь многих, но лишь немногие помнят тебя.
— Конечно, я с удовольствием его повидаю.
— Тогда пойдемте со мной. — Они идут по коридорам, и она говорит: Боюсь, вам покажется, что он очень изменился.
Смысл этих слов не совсем до него доходит. Сконцентрировав внимание на ее коже, он пытается разглядеть, действительно ли ее кожа напоминает множество сшитых вместе шкурок ящериц. Однако ему виден только затылок и руки.
Тотеро в палате один. Белые занавески, словно в ожидании, висят вокруг изголовья кровати. Зеленые растения на подоконниках исправно выделяют кислород. Через открытые фрамуги в комнату несутся летние ароматы. Внизу скрипят по гравию чьи-то шаги.
— Милый, я привела к тебе гостя. Он каким-то чудом оказался в приемной.
— Здравствуйте, мистер Тотеро. Моя жена родила.
С этими словами он, движимый каким-то безотчетным порывом, подходит к Тотеро; вид съежившегося на кровати старика, его перекошенный рот, беспомощно свисающий язык — все это его ошеломило. Лицо Тотеро, заросшее седой щетиной, на белой подушке кажется желтым, тонкие запястья торчат из рукавов полосатой, как обертка грошовой конфетки, пижамы по обе стороны плоского туловища. Кролик протягивает ему руку.
— Он не может поднять руки, Гарри. Он совершенно беспомощен. Но вы с ним поговорите. Он видит и слышит.
Ее мягкий терпеливый голос звучит зловеще, как песня без слов в пустой комнате.
Поскольку Гарри уже протянул руку, он пожимает тыльную сторону ладони Тотеро. Несмотря на сухость, рука под тонкой шершавой шерстью теплая, и, к ужасу Гарри, она упрямо поворачивается, подставляя ему ладонь. Гарри отнимает пальцы и садится на стул возле кровати. Его бывший тренер еле заметно поворачивает голову к гостю. Щеки у него настолько ввалились, что глаза бессильно вылезают из орбит. Говорить, надо говорить.
— Она родила девочку. Я хочу поблагодарить вас, — громко произносит Кролик, — поблагодарить за то, что вы помогли мне снова вернуться к Дженис. Вы были ко мне очень добры.
Тотеро высовывает язык и поворачивает лицо, чтобы взглянуть на жену. Мускул у него под челюстью дергается, губы собираются в складки, а подбородок несколько раз морщится: когда Тотеро пытается что-то сказать, в нем как бы бьется пульс. Изо рта вылетает несколько растянутых гласных звуков, Гарри оборачивается к миссис Тотеро, надеясь, что она сможет их расшифровать, но, к его удивлению, она смотрит в другую сторону. Она смотрит в окно на пустой зеленый двор. Лицо ее напоминает фотографию.
Значит ли это, что ей на все наплевать? Если так, то не надо ли сказать Тотеро про Маргарет? Однако про Маргарет не скажешь ничего такого, что бы порадовало Тотеро.
— Я теперь исправился, мистер Тотеро, и надеюсь, что вы скоро выздоровеете и встанете с постели.
Голова Тотеро быстро и раздраженно поворачивается обратно, глаза слегка косят, и в эту минуту у него такой осмысленный вид, что Гарри кажется, будто он сейчас что-то скажет, будто эта пауза всего лишь его старый педагогический прием — хранить молчание, пока слушатель полностью не сосредоточится. Но пауза растет, раздувается, словно, привыкнув за шестьдесят лет отделять друг от друга фразы, она в конце концов обрела свою собственную жизнь, разрослась, как раковая опухоль, и проглотила все слова. Однако в первые секунды молчания от Тотеро исходит какая-то сила, душа его интенсивно испускает невидимые, лишенные запаха лучи. Потом искра в глазах меркнет, коричневые веки поднимаются, обнажая розовую желеобразную массу, губы раскрываются, и изо рта вылезает кончик языка.
— Я, пожалуй, схожу к жене, — выкрикивает Гарри. — Она вчера родила. Девочку.
Его внезапно одолевает клаустрофобия, словно он сидит в черепе Тотеро; вставая, он боится удариться головой, хотя до белого потолка палаты несколько ярдов.
— Большое спасибо, Гарри. Я знаю, он был очень рад вас видеть, говорит миссис Тотеро. Тем не менее по ее тону он чувствует, что провалился на экзамене. Его отпустили, и он пружинистым шагом уходит по коридору. От того, что он здоров, что начал новую добродетельную жизнь, полнится благоуханием воздух, даже антисептический воздух больничных коридоров. Однако визит к Дженис его разочаровывает. Возможно, его все еще душит вид Тотеро, который лежит все равно что мертвый, возможно, Дженис, на которую уже не действует эфир, душит мысль о том, как он с ней поступил. Она жалуется, что у нее ужасно болят швы, а когда он снова пытается выразить свое раскаяние, ей явно становится скучно. Кролика угнетает, что он не смог никому угодить. Дженис спрашивает, почему он не принес цветов. Он не успел, он рассказывает, где ночевал, и она, конечно, просит описать ей миссис Экклз.
— Ростом примерно с тебя. Вся в веснушках, — осторожно отвечает он.
— У нее чудесный муж. Он всех так любит.
— Да, парень ничего. Только действует мне на нервы.
— Тебе все действуют на нервы.
— Не правда. Марти Тотеро никогда не действовал мне на нервы. Только что видел несчастного старика, лежит пластом дальше по коридору. Ни слова не говорит и едва головой ворочает.
— Он тебе на нервы не действует, а я действую, ты это хотел сказать?
— Ничего подобного я не говорил.
— Ну, конечно. Ой, эти проклятые швы, все равно что колючая проволока. Я так действовала тебе на нервы, что ты сбежал от меня на целых два месяца. Даже больше чем на два.
— О Господи, Дженис. Ты только и знала, что смотреть телевизор и пить. Я не хочу сказать, что я прав, но у меня было такое чувство, будто меня живого уложили в гроб. В тот первый вечер, когда я сел в машину у вашего дома, даже тогда я вполне мог бы заехать за Нельсоном и вернуться домой. Но стоило мне отпустить тормоз…
Ее лицо снова выражает скуку. Она мотает головой, словно отгоняя мух.
— Дерьмо, — говорит он.
Эта последняя капля переполняет чашу.
— Я вижу, твой язык не улучшился от того, что ты жил со своей проституткой.
— Она вовсе не проститутка. Просто спала с кем придется. Таких, как она, хоть пруд пруди. То есть я хочу сказать, что если называть всех незамужних женщин проститутками…
— Где ты теперь будешь жить? Пока я в больнице?
— Я думал, мы с Нельсоном вернемся в нашу квартиру.
— Не уверена, что это возможно. Мы уже два месяца за нее не платили.
— Как? Ты не платила?
— О Господи, Гарри. Ты слишком много хочешь. Может, ты воображаешь, что папа и дальше будет платить за нашу квартиру? У меня денег нет.
— Хозяин уже приходил? А куда девалась наша мебель? Он выбросил ее на улицу?
— Не знаю.
— Не знаешь? А что ты тогда знаешь? Что ты делала все это время? Спала, что ли?
— Я носила твоего ребенка.
— Черт побери, неужели ты больше ни о чем не думала? Беда в том, детка, что тебе вообще на все наплевать. Наплевать, и все.
— Тебя только послушать.
Он пытается вслушаться в свои слова, вспоминает, что чувствовал вчера ночью, и через некоторое время пытается начать все сначала.
— Послушай, я люблю тебя, — говорит он.
— А я люблю тебя. У тебя есть монетка в двадцать пять центов?
— Наверно, есть. Сейчас посмотрю. Зачем тебе?
— Если сунуть монетку в двадцать пять центов вот сюда, — она показывает на маленький телевизор на высокой подставке, чтобы с постели больные видели экран, — он будет работать целый час. В два передают одну дурацкую программу, дома мы с мамой каждый день ее смотрели.