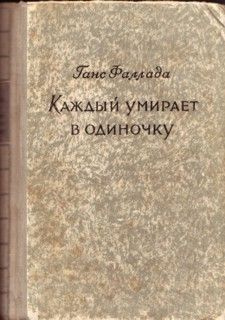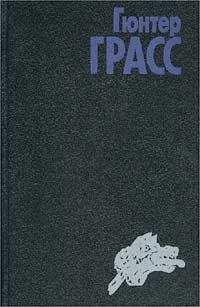— Так-так-так, — говорит Шредер, — так-так-так! — Минутку он думает, затем продолжает: — Только сдается мне, сынок, сейчас ты не очень-то веришь, что мы здесь по этому делу.
— Пожалуй, что и так, — соглашается Клуге.
— А почему, сынок, не веришь?
— Да потому, что гораздо проще было взять меня на работе или по месту жительства.
— Значит, у тебя и местожительство есть, сынок?
— Ну, разумеется, господин комиссар. У меня жена на почте служит, законная жена. Два сына на фронте, один в Польше в эсэсовских частях. У меня и документы при себе, я вам все, что говорил, доказать могу, и где проживаю, и где работаю.
И Энно Клуге достает захватанный, потертый бумажник и начинает рыться в документах.
— Документы ты пока что спрячь, сынок, — отклоняет его намерение Шредер. — Успеется…
Он погружается в раздумье, и вокруг наступает тишина.
Врач, сидящий за письменным столом, начинает спешно писать. Может быть, представится возможность сунуть справку о болезни этому бедняге, которого все время трясет от новых страхов. Он жаловался на печень, ну, что ж, пусть будет печень. Времена сейчас такие, что надо помогать друг другу, если только есть к тому хоть малейшая возможность.
— Что вы, доктор, пишете? — спрашивает Шредер, внезапно пробуждаясь от раздумья.
— Историю болезни, — объясняет врач. — Я хочу использовать время, в приемной еще куча народа.
— Правильно, доктор, — говорит Шредер и встает. Решение принято. — Больше мы вас задерживать не будем. — История, рассказанная Энно Клуге, правдоподобна, по всей вероятности, это даже подлинная правда, но Шредер никак не может отделаться от ощущения, что за этой историей еще что-то кроется, арестованный чего-то не договаривает. — Ну, пойдем, сынок! Проводишь нас немножко? Нет, не до Алекса, только до нашего участка. Я охотно с тобой еще потолкую, сынок, мальчик ты бойкий, а задерживать дядю доктора дольше невежливо. — Затем он обращается к шуцману: — Наручников не надо, он и так пойдет, он у нас пай-мальчик, умник. Хейль Гитлер, господин доктор, и большое спасибо!
Они уже у самой двери, сейчас уйдут. Но тут Шредер вдруг вытаскивает из кармана открытку, открытку, написанную Квангелем, подносит ее к самому лицу Энно Клуге и строго приказывает: — Ну-ка, сынок, прочти, что здесь написано! Но только быстро, без запинок, единым духом!
Он говорит это совсем на манер полицейских…
Но уже по одному тому, как Клуге берет открытку, как он таращит глаза с бессмысленным видом, как начинает читать по складам: «Немцы, не забывайте! Началось с присоединения Австрии. Затем последовали Судеты и Чехословакия. Нападения на Польшу, Бельгию, Голландию…» — уж по одному этому сотрудник уголовного розыска почти с уверенностью может сказать: этот человек никогда не держал в руках данной открытки, никогда не читал того, что в ней написано, уж не говоря о том, что он не мог ее написать — на это у него ума нехватит.
Сердито вырывает он открытку из рук Энно Клуге, коротко говорит «хейль Гитлер!» и вместе с шуцманом и арестованным выходит из кабинета.
Медленно рвет доктор приготовленную для Энно справку. Так ему и не удалось сунуть ее этому Клуге. Жаль! Да вряд ли она бы ему и помогла. Возможно, что этот человек, столь мало приспособленный к трудностям теперешней жизни, обречен на гибель, возможно, что никакая помощь извне его не спасет, потому что сам он внутренне так неустойчив.
Жаль…
Если сотрудник уголовного розыска при всей его уверенности, что Энно Клуге непричастен ни к писанию, ни к распространению открыток, — если сотрудник в своем донесении комиссару Эшериху по телефону и намекнул, будто распространителем этих воззваний, вероятно, все-таки является Клуге, то сделал он это по той единственной причине, что осмотрительный подчиненный никогда не предвосхищает выводов своего начальника. Ведь против Энно — веские показания медицинской сестры фрейлен Кизов, а уж там — обоснованы они или нет — пусть решает сам господин комиссар.
Если обоснованы — значит, сотрудник способный малый, и благосклонность комиссара ему обеспечена. Если не обоснованы — значит, комиссар умнее Шредера, а такое превосходство начальнического ума куда выгоднее для подчиненного, чем его собственная сообразительность.
— Ну как? — спросил длинный пепельно-серый Эшерих, входя деревянной походкой в помещение участка. — Ну как, коллега Шредер? Где же ваша добыча?
— В последней камере слева, господин комиссар.
— Невидимка сознался?
— Кто? Невидимка? Ах да, понимаю! Нет, господин комиссар, но после нашего телефонного разговора, я, конечно, сейчас же приказал отвести его в камеру.
— Правильно! — похвалил сотрудника комиссар. — А что ему известно насчет открыток?
— Я, — осторожно начал Шредер, — заставил его прочесть вслух найденную открытку, то есть начало.
— Впечатление?
— Я бы не хотел предрешать заранее, господин комиссар, — отозвался помощник.
— Что это вы робеете, коллега Шредер! Впечатление?
— Во всяком случае мне кажется маловероятным, чтобы эти открытки писал он.
— Отчего?
— Недалек. Кроме того, страшно запуган. Комиссар недовольно провел рукой по усам песочного цвета: — Недалек, страшно запуган, — повторил он. — Ну, мой невидимка умен и нисколько не запуган. Отчего же вы решили, что поймали, кого следует? Выкладывайте!
Шредер повиновался. Он прежде всего повторил показания медицинской сестры, подчеркнул и попытку к бегству: — Я не мог поступить иначе, — господин комиссар. После полученных мною распоряжений, я должен был задержать его.
— Правильно, коллега Шредер. Совершенно правильно. Я бы тоже так сделал.
Это сообщение несколько подняло дух Эшериха. Оно звучало утешительнее, чем «недалек» и «страшно запуган». Может быть, попался один из распространителей открыток, хотя до сих пор комиссар и считал твердо установленным, что у невидимки соучастников не было.
— Вы его документы просматривали?
— Вот лежат. В общем они подтверждают то, что и он говорит. У меня такое впечатление, господин комиссар, что это типичный лодырь, — боязнь фронта, нежелание работать, и на скачках играет… Я нашел у него целую пачку беговых бюллетеней и подсчетов. А затем — довольно обычные письма от всяких бабенок, словом, такой тип, понимаете, господин комиссар. Хотя ему уже под пятьдесят.
— Хорошо, хорошо, — согласился комиссар, однако, решив про себя, что совсем не хорошо. Тот, кто пишет или распространяет подобные открытки, не будет возиться с бабами. Это совершенно ясно. Его ожившие было надежды снова померкли. Но тут Эшерих вспомнил о своем начальнике, обергруппенфюрере Прале, и о еще более высоких начальниках, вплоть до Гиммлера. В ближайшие же дни Эшериху солоно от них придется, если не будет найдено никакого следа. А здесь все-таки был след, во всяком случае имелись налицо серьезные показания и подозрительные действия. По этому следу можно итти, если даже в глубине души и считаешь его не совсем верным. Все-таки выигрываешь время и получаешь новую возможность терпеливо ждать. И притом — никому никакого ущерба. Разве может итти в счет такой тип!
Эшерих встал. — Пойду-ка я загляну в камеры, Шредер. Дайте мне эту последнюю открытку и подождите здесь.
Комиссар ступал беззвучно, он крепко сжимал в руке ключи, чтобы они не звякали. Осторожно открыл он глазок и заглянул в камеру.
Арестованный сидел на табурете. Он подпер голову рукой, его взгляд был устремлен на дверь. Казалось, он смотрит прямо в подстерегающий глаз комиссара. Однако выражение его лица показывало, что он ничего не видит. Он не вздрогнул, когда глазок открылся, и на лице его не появилось той напряженности, какая бывает обычно у человека, почуявшего, что за ним наблюдают.
Наоборот, он смотрел перед собой просто так, — даже не задумчиво, а скорее дремотно, охваченный унылыми предчувствиями.
И комиссар у глазка тут же понял: нет, невидимка — не этот, этот даже не соучастник. Здесь просто ошибка, какими бы вескими ни были показания и подозрительным поведение.
Однако Эшерих вспомнил опять о своих начальниках, он пожевал кончики усов, он принялся обдумывать, как бы затянуть это дело возможно дольше, пока наконец не станет ясно, что захвачен вовсе не тот. Но и компрометировать себя тоже не следует.
Он решительно распахнул дверь камеры и вошел. Услышав скрежет замка, арестованный вздрогнул, сначала уставился, оторопев, на вошедшего, затем сделал попытку подняться.
Однако комиссар тотчас усадил его обратно.
— Сидите, сидите, господин Клуге. В наши годы вскакивать уже не так легко.
Он рассмеялся, и Клуге тоже улыбнулся, просто из вежливости, и притом довольно жалобно.