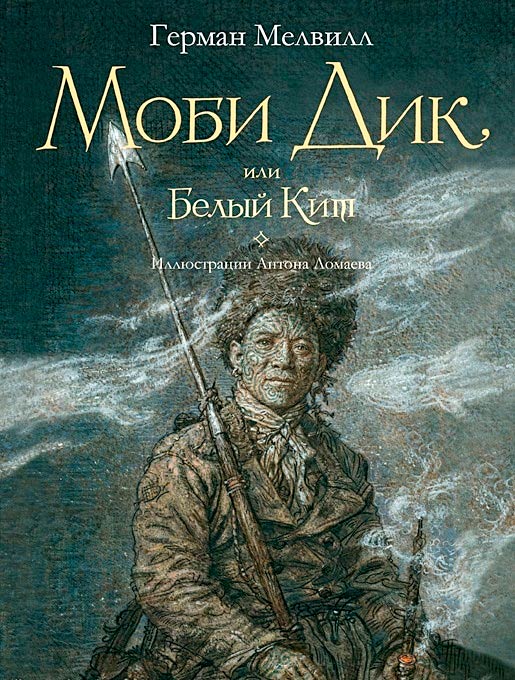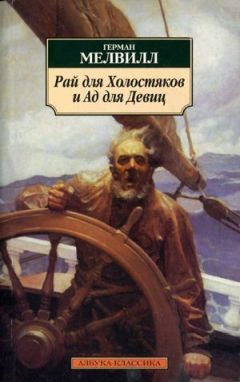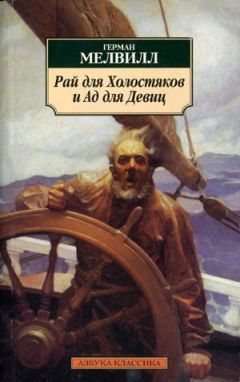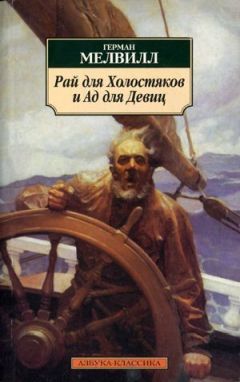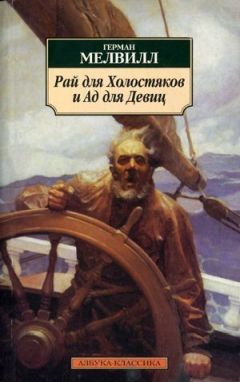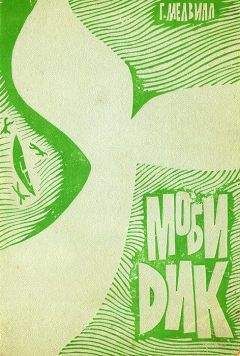ума, в природе человека, пережившего столько ужасов и хранящего такие воспоминания, таится опасность скрытого зарождения новой стихии, которая в удобную минуту может прорваться наружу из своего тайника и спалить дотла всю его храбрость. И как ни велика была его отвага, то была отвага смельчака, который, не дрогнув, вступает в борьбу с океанами, ветрами, китами и любыми сверхъестественными ужасами мира, но не в силах противостоять ужасам духа, какими грозит нам порой нахмуренное чело ослепленного яростью великого человека.
Если бы впоследствии мне предстояло описывать полное посрамление Старбекова мужества, у меня едва ли хватило бы духу продолжать свое повествование; ведь так горько и даже постыдно рассказывать о падении человеческой доблести. Люди могут представляться нам отвратительными, как некие сборища — акционерные компании и нации; среди людей могут быть мошенники, дураки и убийцы; и физиономии у людей могут быть подлыми и постными; но человек, в идеале, так велик, так блистателен, человек — это такое благородное, такое светлое существо, что всякое позорное пятно на нем ближние неизменно торопятся прикрыть самыми дорогими своими одеждами. Идеал безупречной мужественности живет у нас в душе, в самой глубине души, так что даже потеря внешнего достоинства не может его затронуть; и он, этот идеал, в мучениях истекает кровью при виде человека со сломленной доблестью. При столь постыдном зрелище само благочестие не может не слать укоров допустившим позор звездам. Но царственное величие, о котором я веду здесь речь, не есть величие королей и мантий, это щедрое величие, которое не нуждается в пышном облачении. Ты сможешь увидеть, как сияет оно в руке, взмахнувшей киркой или загоняющей костыль; это величие демократии, чей свет равно падает на все ладони, исходящий от лица самого Бога. Великий, непогрешимый Бог! Средоточие и вселенский круг демократии! Его вездесущность — наше божественное равенство!
И потому, если в дальнейшем я самым последним матросам, отступникам и отщепенцам, припишу черты высокие, хотя и темные; если я оплету их трагической привлекательностью; если порой даже самый жалкий среди них и, может статься, самый униженный будет вознесен на головокружительные высоты; если мне случится коснуться руки рабочего небесным лучом; если я раскину радугу над его гибельным закатом, тогда, вопреки всем смертным критикам, поддержи меня, о беспристрастный дух равенства, простерший единую царственную мантию над всеми мне подобными! Поддержи меня, о великий бог демократии, одаривший даже темноликого узника Бэньяна (125) — бледной жемчужиной поэзии; ты, одевший чеканными листами чистейшего золота обрубленную, нищую руку старого Сервантеса (126); ты, подобравший на мостовой Эндрью Джэксона (127) и швырнувший его на спину боевого скакуна; ты, во громе вознесший его превыше трона! Ты, во время земных своих переходов неустанно сбирающий с королевских лугов отборную жатву — лучших борцов за дело твое; поддержи меня, о Бог!
⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀
⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀
Глава XXVII
Рыцари и оруженосцы
⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀
Вторым помощником плыл Стабб, уроженец Кейп-Кода. Это был не трус, не герой, а просто беспечный сорвиголова, всегда готовый встретить опасность с полным безразличием и даже на охоте, перед лицом неотвратимой угрозы, делающий свое дело спокойно и сосредоточенно, будто мастеровой-поденщик, на целый год заручившийся работой. Веселый, беззлобный, беззаботный, он возглавлял вельбот, словно любая смертельная схватка — это не более как званый обед, а его команда — всего лишь любезные гости. Особое внимание уделял он тому, чтобы расположиться в лодке со всем возможным комфортом, точно старый кучер, стремящийся поуютнее устроиться у себя на облучке. А сблизившись с китом в самый разгар схватки, он с такой же бесстрастной непринужденностью действовал беспощадной острогой, как орудовал бы, посвистывая, мирный жестянщик безобидным своим молотком. Оказавшись бок о бок с обезумевшим от ярости чудовищем, он, бывало, продолжал напевать себе под нос излюбленную разухабистую песенку. В силу многолетней привычки Стабб даже в зубах у смерти чувствовал себя как в покойном кресле. Что он думал о самой смерти, неизвестно. Да и вообще-то думал ли он о ней, кто знает? Но если случалось ему иной раз после сытного обеда пораскинуть мозгами в этом направлении, я не сомневаюсь, что как бравый моряк он представлял себе смерть особой командой вахтенного, вроде: «Марсовые, к вантам, на фок и грот!» — по которой он должен будет немедля вскарабкаться вверх и приняться там за дело, а за какое именно, он узнает, исполнив первое приказание, и никак не раньше.
Если было еще кое-что, со своей стороны способствовавшее выработке у Стабба его легкого характера и превращению его самого в такого бесстрашного, неунывающего человека, который тащит преспокойно бремя существования, легко шагая по нашему миру, где так и кишат мрачные коробейники, согбенные до земли под тяжестью своих товаров; если было еще кое-что, вызывавшее к жизни это его почти безбожное добродушие, то таким предметом могла быть только его трубка. Ибо не в меньшей мере, чем нос, коротенькая черная трубка была неотъемлемой чертой его лица. Скорее уж можно было ожидать, что он встанет со своей койки без носа, чем без трубки. У него над койкой была прибита особая планка, за которую он затыкал набитые трубки; стоило ему, ложась спать, только протянуть руку — и он мог выкурить их все подряд, раскуривая одну от другой до победного конца, а потом снова набить и оставить наготове. Ибо, вставая по утрам, Стабб, вместо того чтобы сначала всунуть ноги в брюки, прежде всего совал себе трубку в рот.
Я думаю, что беспрерывное курение служило, по крайней мере, одной из причин его редкостного расположения духа; ведь всякому известно, как опасно заражен утренний воздух, что на берегу, что в море, несказанными муками бессчетного множества смертных, которые в предрассветный час испускают в него свой многострадальный дух; и подобно тому, как во время холерной эпидемии некоторые ходят, прижав ко рту пропитанный камфарой носовой платок, точно так же, быть может, и табачный дым служил для Стабба своего рода дезинфицирующим средством против всех человеческих треволнений.
Третьим помощником был Фласк, родом из Тисбери, что на острове Вайньярд, низкорослый, тучный молодой человек, настроенный крайне воинственно по отношению к китам, словно он считал могучих левиафанов своими личными и наследственными врагами и полагал для себя делом чести убивать их при каждой встрече. Ему настолько чуждо было всякое чувство благоговения перед многими чудесами и таинственными повадками морского исполина, настолько недоступна всякая мысль об опасности, связанной с ним, что