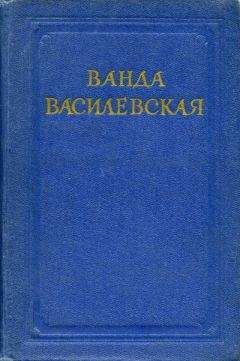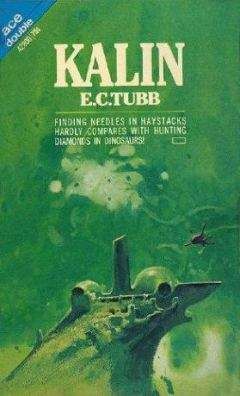— И на хлеб ведь… Краюху хлеба он мне дал…
— И на хлеб? Скажите, пожалуйста, на хлеб! Что ж я тут, по-вашему, с утра до ночи хлебом обжираюсь, хлеба у нас в избе столько, что по всем углам валяется? Ребенок крошки хлеба допроситься не может, а вы рожь из избы таскаете, хлеба вам захотелось! Сейчас же собирайтесь — и по миру. Может, вам где-нибудь кто и бросит корку, а только не я! Да по Калинам чтоб не смели таскаться, зарубите себе на носу. И без Калин деревень хватит.
Сгорбившись, он взял суму и, не глядя на невестку, вышел из дома. С минуту копался еще перед избой. Она пошла посмотреть, что он там делает. Старик медленно взял суковатую палку, с которой ходил за скотиной. Оглянулся на собачью конуру, собаки там уже давно не было — заболела и издохла, может — с голоду, у самих ведь ничего не было, куда уж пса кормить! Старик постоял еще, поглядел кругом и медленно двинулся в путь. Она смотрела, куда он направится, но старик, видимо, помнил ее слова, потому что потащился не к Калинам, а к остшеньским лесам. Она долго смотрела ему вслед, пока он не затерялся в ближайших перелесках, маленький, сгорбленный, едва волоча ноги. Она с облегчением вздохнула.
По тропинке как раз подходил Матус.
— Поймал что-нибудь? Э, мелюзга…
— Ясно, мелюзга. А отца нет?
Она избегала взгляда мужа, но руки ее, полные мелкой рыбы, не дрогнули.
— Нет. Пошли по деревням.
— Как это? Зачем?
— Милостыню просить. Не знаешь, как?
Он, остолбенев, уставился на жену.
— Ты их выгнала?
— А как было не выгнать? Работать им неохота, а глотка, чтобы жрать, — широкая, да еще в такой год… Они рожь с чердака крали и таскали к Стефановичу за махорку.
Он испугался.
— И много?
— Много-то не успели, я сразу заметила, а кабы не присмотрела, так в мешках ничего бы не осталось… А ты уж и заскучал?
— Все-таки отец…
— Отец, отец, а много ты от них получил? Несчастные два морга в деревне да трухлявую избенку… И за это их всю жизнь корми, пои, смотри за ними, когда и самим-то есть нечего.
— Бабы по деревне такой гвалт поднимут…
— Не поднимут! Я отцу приказала в Калины не ходить. Они совсем в другую сторону пошли, в остшеньскую… Да тут ничего и не выпросишь. У людей у самих нет… Разве что нам назло дали бы. Показать, какие они жалостливые!.. Ну, а там дальше, на свете, может, лучше живется? Помнишь, как Лисихина мать ходила по деревням — так, бывало, еще детям что-нибудь принесет, и на похороны деньги отложила, и на смертную одежу…
— Это верно, но те всегда нищими были…
— А мы кто? Господа? Есть у тебя настоящая изба? Есть у тебя земля, живность какая? Только и были, что свиньи, так и те передохли! Нищие мы и есть. Было у тебя чем отца кормить, было на что еще один рот в избе держать? Не бойся, они работать только не любят, а так еще расторопные… Им с сумой еще лучше будет, чем нам в нашем хозяйстве. Кабы у них сердце было, так хоть Владеку иногда что-нибудь принесли бы.
Он не возражал жене, — впрочем, теперь уж и смысла не было, дело уже сделано. Выйдя во двор, он принялся колоть дрова. Сперва у него не ладилось, он не мог не думать об отце. Но, не успев еще расколоть несколько корневищ, притащенных ночью из леса, он уже решил, что так лучше. Одним ртом у миски меньше, и свары в избе меньше, а то Агнешка вечно грызлась со стариком. Да и то правда, что, может, и отцу на положении нищего будет легче, чем им здесь, в собственной избе.
Он немного опасался людских языков. Но сейчас у деревенских, баб головы были забиты другими делами, никого не интересовало, куда девался старый Матус. Впрочем, может, они подумают, что он болен. Изба Матусов стояла на отлете, в стороне от деревни, как и все хутора.
То и дело болели и умирали люди. О свадьбах что-то и не слышно было. Стасяков Аптек собирался было жениться на старшей дочери Захарчуков — об этом давно поговаривали в деревне, — но теперь Стасяки вдруг стали на дыбы.
— Приданое какое у девки есть? Нищую в дом возьмешь?
— Да ведь и у вас не бог весть какое богатство!
— Так хоть за женой надо взять! Парень ты ничего, справный, за тебя и не такая пойдет.
— Да ведь сами вы еще весной с Захарчуками разговаривали…
— Весной одно, а сейчас другое… Что дадут за ней Захарчуки, когда им самим жрать нечего? Клочок песчаной земли!
— Еще корову…
— Ну да, корову! А чем ты ее кормить будешь? Разве что живодеру продашь?
Пуще всех жаловался Стефанович. Как привез в начале лета тридцать бутылок пива, так двадцать из них и стоят в погребе, покрываясь пылью и паутиной. Он все чаще поговаривал о том, чтобы перебраться в город, и люди слушали его с удовольствием. Ведь осталась бы земля, изрядный кусок земли под огородом, обильно унавоженной, тщательно обработанной темной земли, на которой удалось истребить песок.
— Так ведь не бросит, наверно, продаст.
— Дорого возьмет…
— Конечно, земля хорошая.
— Хоть бы клочком человек поживился…
— Может, не потребует все деньги сразу — потому, кто же даст?
— Нет, ждать он не согласится.
— Не согласится, так и не продаст.
— Э, может, и найдется такой, что заплатит…
— Думаете, Плазяки?
— Может, и Плазяки, старик вроде говорил что-то…
— Боже милостивый, опять все богатому пойдет! А кабы так, беднота по клочку получила бы…
— Так вам и дадут!
— Да и что там, — все равно клочок…
— Да, вот ежели бы Остшень довелось делить…
— Ну, тут бы уж никакой нужды в деревнях не стало.
— Куда! Крепкими хозяйства стали бы!
— Пусть бы даже между Калинами, Мацьковым да Бжегами, между всеми здешными деревнями в раздел пошло…
— Еще бы, столько земли!
— Коровы, лошади — все не такое, как у нас.
— Крупные, жирные, откормленные!
— А конюшню-то в Остшене видели? Дай бог и человеку в такой жить.
— И-и! Бог знает, что говорите!
— Не бог знает что, а правду. Там скотине лучше живется, чем здесь человеку.
— Да еще в такое время.
Над деревней шли раскаленные от солнца дни, искрящиеся от звезд ночи. Лето догорало живым огнем, рябина стояла в пламени кровавых гроздьев, по их обилию люди предсказывали суровую, долгую зиму. Да, только этого еще не хватало: после засушливого лета, после этих ужасных месяцев — суровая зима. А зимы здесь выпадали жестокие, когда по бескрайной равнине с воем носился ветер, снегу наваливало выше окон, трескались от мороза деревья в лесу, а человек ежился, мерз, коченел, страх было из избы выйти.
— Да, да… Лето нас выжгло, а зима выморозит.
— Многие весны не дождутся.
— Ох, далеко до этой весны, далеко… Ведь лето еще…
Было лето, но деревья уже золотились, по полям стлались прозрачные туманы, сохли и покрывались коричневым налетом орехи, хотя ядер еще не было, осыпались пустыми семячками подсолнухи, маковые головки уродились мелкие, дряблые, громко бренчащие немногочисленными зернышками. Побурела картофельная ботва, раньше так обманчиво высокая и зеленая, с дубов осыпались веточки с желудями-недоростками. Пропадали, гибли, преждевременно клонясь к осени, поля, луга и лес.
Уже давно носились неясные слухи, люди шептались между собой, но всерьез никто этого не принимал, тем более что теперь народ был как-то запуган и любая бабья сплетня мгновенно распространялась и вызывала смятение. Детям на прибужских лугах мерещились полуденные бесы, и женщины горячо подтверждали их рассказы.
Верно было одно — творились чудеса! Кто задушил у Роеков курицу, растащив перья по всему двору? Это не лиса, не собака, бабы знали наверняка. Среди бела дня нечистая сила бродила за плетнями, вопила ночью в полях, метила черным пальцем двери изб — и к утру в такой избе кто-нибудь заболевал.
Носились ложные вести, порожденные страхом и отчаянием, искаженные, преувеличенные. Рассказывали, что такой-то или такой-то умер, а несколько часов спустя он, совершенно здоровый, шел по деревне, так что уж никто ни в чем не мог разобраться.
Так и с этим — болтали люди, болтали, но никто не считал это правдой.
Но вот как-то в понедельник приехал староста из города; не сказав ни с кем ни слова, повалился на постель, а старостиха ходила вокруг на цыпочках, а потом, еще до полудня, вдруг залаяли собаки и лесник Омеряк прошел вдоль деревни.
— Убирать лодки со старого рукава! Если до утра которая-нибудь останется — затоплю.
— Как так? Почему такое? — смело воспротивился Стасяк.
— Господин граф взял в аренду эту территорию, — разъяснил по-ученому лесник.
— Старый рукав? Как же это? Нашу воду?
— Разве он просил общество об аренде?
— Нешто мы постановляли такое?
— Не иначе, как он со старостой сделку заключил. А ну, к старосте!
Сбежалась сразу целая толпа. И обе комнаты и сени оказались набитыми народом, остальные толпились перед домом.