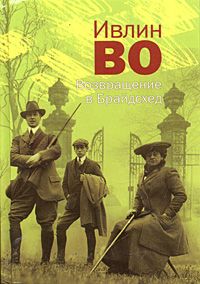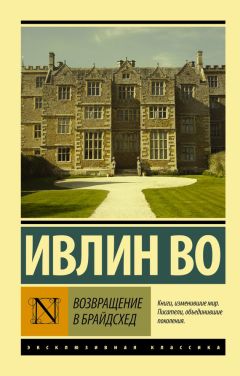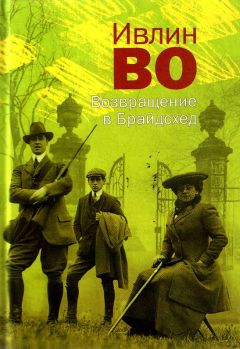И почти сразу же мы с ним неизбежно заговорили о Себастьяне.
— Мой милый, он так пьет. Он приехал и поселился у меня в Марселе в прошлом году, когда вы с ним разошлись, и, право, это было выше моих сил. Целый день прикладывается к бутылке, точно вдовствующая герцогиня. И столько хитрости. У меня всё время что-нибудь пропадало, какие-то вещицы, которыми я дорожил, один раз исчезли два костюма, только что прибывшие от «Лесли и Робертса». Разумеется, я не мог подумать на Себастьяна — у меня в квартире постоянно появлялись и исчезали разные темные личности; уж кто-кто, а вы, мой милый, знаете мое пристрастие к темным личностям. Но в конце концов, мой милый, мы обнаружили ломбард, где Себастьян всё это з-з-закладывал, и тогда выяснилось, что у него нет квитанций — их, оказывается, тоже можно реализовать в бистро.
Вижу это неодобрительное пуританское выражение вашего лица, мой любезный Чарльз, словно вы считаете, что это я его толкал по стезе порока. Это одно из наименее приятных свойств Себастьяна — он всегда производил впечатление толкаемого по стезе порока. Но уверяю вас, я делал всё, что мог. Я много раз говорил ему: «Зачем пить? Если вы ищете забытья, есть много других, гораздо более соблазнительных способов». И я повел его к самому надежному человеку — ну, вы знаете его не хуже меня: Нада Алопов, и Жан Люксмор, и все знакомые уже много лет его клиенты, его всегда можно найти в «Регина баре»; и потом у нас из-за этого вышли серьезные осложнения, потому что Себастьян дал ему негодный чек — п-п-поддельный, представьте себе, мой милый, — и к нам на квартиру явилась целая банда, опаснейшие головорезы, мой милый, а Себастьян в это время был в совершенном беспамятстве, и всё это получилось крайне неприятно.
К нам подошел Бой Мулкастер и без приглашения уселся рядом со мною за наш столик.
— Там пить больше нечего, — пояснил он, опоражнивая в свой стакан нашу бутылку. — Ни одной знакомой физиономии, всё только какие-то чернокожие.
Антони не удостоил его вниманием, он продолжал свой рассказ.
— Ну и тогда мы уехали из Марселя и поселились в Танжере, и вот там-то, мой милый, Себастьян и завел себе этого нового дружка. Как вам его описать? Он похож на швейцара из «Теней» — такой здоровенный немец, служил в Иностранном легионе. Выдрался оттуда, отстрелив себе большой палец на ноге. Нога у него до сих пор не зажила. Когда Себастьян с ним познакомился, он был зазывалой при одном из заведений Касбы и умирал с голоду. Себастьян привез и поселил его у нас. И это было смертоубийственно. Ну и тогда я подался обратно, в старую добрую Англию. В старую добрую Англию, — повторил он, обводя широким жестом негров, играющих в кости у наших ног, Мулкастера, уставившегося перед собой бессмысленным взглядом, и хозяйку дома в пижаме, которая подошла к нам познакомиться.
— Никогда вас раньше не встречала, — сказала она. — И не приглашала. И вообще, откуда взялось всё это белое отребье? Может быть, я попала в чужой дом?
— Родина в опасности. — сказал Мулкастер. — Мало ли что может случиться.
— Ну как вечер? Удался? — поинтересовалась хозяйка. — Как вы думаете, Флоренс Миллз согласится спеть? Мы с вами встречались, — добавила она, обращаясь к Антони.
— Много раз, дорогая, но сегодня вы меня не пригласили.
— Неужели? Наверно, вы мне не нравитесь. Я думала, мне все люди нравятся.
— Как, по-вашему, — спросил Мулкастер, когда хозяйка дома покинула нас, — остроумно будет, если дать пожарную тревогу?
— О да, Бой, ступайте и позвоните.
— Может, взбодрит всех немного, а?
— Вот именно.
И Мулкастер ушел в поисках телефона.
— Если не ошибаюсь, Себастьян со своим хромоножкой отправились во Французское Марокко, — продолжал Антони. — Когда я уезжал, у них были неприятности с танжерской полицией. Маркиза со дня моего приезда положительно не дает мне ни минуты покоя. Хочет, чтобы я как-нибудь с ними связался. Ах, как ей сейчас, бедняжке, худо приходится. Чем доказывается, что справедливость на земле все-таки существует.
В это время запела мисс Миллз, и все, кроме игроков в кости, устремились в соседнюю комнату.
— Вон моя девушка, — показал Мулкастер. — Вон стоит с тем чернокожим типом. Барышня, которая меня сюда привела.
— По-моему, она про вас и думать забыла.
— По-моему, тоже. Напрасно я приехал. Давайте закатимся куда-нибудь, а?
К подъезду, когда мы выходили, подъехали две пожарные машины, и люди в блестящих касках смешались с толпой гостей.
— Этот тип Бланш, — сказал Мулкастер, — плохой человек. Я его один раз окунал под Меркурия.
Мы заходили в разные ночные клубы. За прошедшие два года Мулкастер сумел достичь того, к чему так простодушно стремился, — в заведениях этого рода он пользовался известностью и любовью. В последнем из них нас с ним обуял пламенный патриотизм.
— Вы и я, — сказал Мулкастер, — слишком поздно родились и не могли воевать в эту войну. Воевали другие ребята и полегли миллионами. А мы нет. Мы им покажем. Покажем павшим героям, что тоже можем воевать.
— Я для того и приехал, — сказал я. — Примчался из-за моря, чтобы сплотиться вокруг родины в тяжелый час испытаний.
— Как австралийцы.
— Да, как бедные павшие герои австралийцы.
— Вы куда записались?
— Пока никуда. Еще войны-то нет.
— Записываться надо только к Биллу Медоузу — в Оборонный корпус. Все свои ребята. Все состоят у «Брэтта».
— Запишусь.
— Ребят брэттовских помните?
— Нет. Туда тоже вступлю.
— Дело. Все свои, ребята что надо, как те герои.
И я записался к Биллу Медоузу, который командовал летучим отрядом по охране поставок провизии в беднейших кварталах Лондона. Сначала мое имя было внесено в списки Оборонного корпуса; потом с меня взяли присягу в верности и выдали шлем и дубинку; потом меня выдвинули в члены клуба «Брэтт» и провели вместе с другими новобранцами на специально для того созванном заседании комитета. Потом мы неделю просидели в боевой готовности у «Брэтта», трижды в сутки выезжая в грузовике на сопровождение молочных фургонов. В спину нам улюлюкали, иногда швыряли отбросы, но лишь один раз нам довелось участвовать в военных действиях.
Мы сидели после завтрака и томились, когда в салон, поговорив по телефону, вернулся Билл Медоуз в самом приподнятом настроении.
— Поехали, — распорядился он. — На Коммершиал-роуд идет сражение — что надо!
Мы укатили на большой скорости и прибыли на место. От фонаря к фонарю через улицу был натянут стальной трос, на мостовой лежал перевернутый грузовик, а рядом с ним — одинокий полисмен, на которого наседала с кулаками и пинками группка каких-то юнцов. По обе стороны от этого центра беспорядков, на довольно почтительном расстоянии, начали собираться враждующие силы. Неподалеку от того места, где мы выгрузились, на тротуаре сидел второй полисмен, пострадавший, он держался руками за голову, и из-под пальцев текла кровь; его окружало несколько сочувствующих; по ту сторону троса враждебно сгрудились молодые докеры. Мы жизнерадостно ринулись в атаку, освободили из окружения полисмена и устремились на главные силы противника, но вместо этого столкнулись с делегацией местных священников и деятелей муниципалитета, прибывших одновременно с нами с другой стороны, дабы воздействовать уговорами. Они были нашими единственными жертвами, ибо едва только мы успели сбить их с ног, как раздался крик «Спасайся! Полиция!» — и у нас за спиной, скрежеща тормозами, остановился грузовик с полицейскими.
Толпу сразу точно ветром сдуло. Мы подобрали повергнутых миротворцев (из которых только один пострадал серьезно), потом некоторое время патрулировали окрестные переулки, откровенно — хотя и тщетно — нарываясь на неприятности, и наконец возвратились к «Брэтту». Назавтра Всеобщая забастовка кончилась, и повсюду в стране, кроме районов угледобычи, жизнь вошла в свою колею. Словно страшный зверь, о чьей свирепости ходили давние слухи, вышел на час из своего логова, учуял опасность и убрался восвояси. Ради этого не стоило приезжать из Парижа.
Жан, записавшийся в другой отряд, на неделю попал в госпиталь — в Кемдентауне престарелая вдовица уронила ему на голову цветочный горшок.
О том, что я в Англии, Джулия узнала через соратников Билла Медоуза. Она позвонила и передала, что ее мать очень просит меня к ним заехать.
— Вы увидите, она ужасно больна, — сказала Джулия. Я отправился в Марчмейн-хаус в первое же утро мира. В прихожей я едва не столкнулся с уходившим сэром Адрианом Порсоном; он закрывал лицо носовым платком, ощупью ища трость и шляпу; он был в слезах.
Меня проводили в библиотеку, и через минуту ко мне туда вышла Джулия. Она пожала мне руку с сердечностью и удрученностью, которые были для меня в ней непривычны; в сумраке дома она казалась привидением.