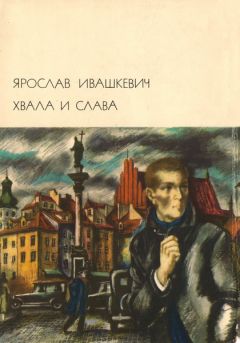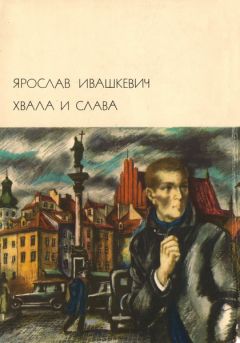— Потому что против немцев? Да?
— Ну да, наконец-то…
— Но, похоже, нас разобьют.
— На этот раз наверняка. Но ведь это не последний бой.
— И не первый. Неужели война — это самое важное, самое нужное для человечества?
— Во всяком случае, она нужнее, чем искусство Генрика!
— Возможно, тем более что Генрик сейчас сражается. А вот, кстати, и он.
Генрик подбежал к ним, крича четырем солдатам, которые тащили за ним пулемет:
— Сюда, сюда!..
Он приказал установить пулемет между четырьмя кустиками, посаженными вокруг креста. Юзек возмутился.
— Да разве это укрытие? Ты с ума сошел! Ведь сразу же видно, что именно здесь может быть пулеметное гнездо. Ты ничего не смыслишь в этом.
— Пулемет должен стоять здесь, — закричал побагровевший Генрик. — Понятно?
— Но ведь нас тут перебьют! — упирался Юзек.
— Можешь уйти отсюда. Тебе никто не приказывал здесь оставаться.
— Мне вообще никто ничего не приказывал.
— Так чего же ты здесь околачиваешься?
Януш обратил внимание, что они разговаривают неестественно громко, и тут только осознал, что воздух гудит от орудийных залпов. Взглянув на степь, он вдруг увидел на далеком расстоянии маленькие фигурки людей, они бежали цепью, припадая к земле. То одна, то другая фигурка вскакивала и устремлялась вперед. Януш уже знал, как свистят пули. Вот еще несколько пронеслось над головой. Прибежал какой-то офицер с лицом красным, как бурак, с черными спутанными волосами, выбившимися из-под голубой шапки.
— Стреляйте, стреляйте! — кричал он.
— Боже, какой балаган, — сказал Юзек Янушу.
Пулемет под крестом заработал, и Януш с любопытством повернулся в ту сторону, но вдруг Юзек подогнул ноги и медленно, как актер на сцене, повалился головой вперед. Януш подскочил к нему. Юзек пытался встать.
— Помоги мне, — сказал он, — в бок угодило.
Подошел Генрик. Вдвоем они подняли Юзека, он был бледен и кусал губы. Крови не было видно.
— Пойдем, пойдем, — сказал Януш.
Они повели Юзека к деревне. Сначала он шел сам и даже сказал:
— Ничего не болит.
Но потом стал с трудом переставлять ноги. Пришлось почти нести его. Так добрались до первой хаты. Во дворе лежал большой ворох изумрудной свежескошенной люцерны. Сюда они подвели, точнее, перенесли Юзека — двигаться он уже не мог. Вдруг он тихо застонал и приподнялся.
Януш поднял глаза и увидел, вернее, заметил, как по лицу друга скользнуло дыхание смерти. Сначала окаменели губы, потом заострился нос, глаза еще мгновенье смотрели прямо перед собой с выражением испуга, а потом остекленели и тоже стали неподвижными. Наконец, покрывшись желтизной, замер лоб, над которым развевалась на весеннем ветру светлая прядь волос, и Юзек рухнул как подкошенный на зеленое ложе из люцерны.
В том году, несмотря на чудесное лето, лишь немногие выезжали из Варшавы, но уж если выезжали, то надолго. Солнце обжигало пустынные улицы, движение по ним почти прекратилось. Януш устроился у Билинских в маленькой комнатке наверху и чувствовал себя там превосходно. Он часто виделся с сестрой, реже — со старой княгиней Билинской, которая тоже жила на Брацкой; семейный уют в доме создавали Текла Бесядовская, ведавшая всем хозяйством, да старик Станислав, который после бегства из Маньковки пробрался через Киев и Брест в Варшаву и осел у Билинских, вернувшись к старому очагу, покинутому лишь на время войны.
Особняк на Брацкой был удачно встроен в многоэтажный жилой дом, который деликатно маскировал эту магнатскую резиденцию и в то же время продолжал приносить немалый доход, несмотря на то, что уже был введен закон «в защиту квартиронанимателей»; но самое главное — это было хорошее убежище для старой княгини, которая за последнее время сильно сдала, для ее невестки, не очнувшейся еще от всего, что было пережито на Украине, и для внука Алека, растущего как на дрожжах. Ройская, приезжая из Пустых Лонк в столицу (нынешним летом она пребывала здесь неотлучно и не знала даже, когда вернется домой), останавливалась у Голомбеков, занимавших большую квартиру на улице Чацкого. У Голомбеков жил и Валерек, который записался было на юридический факультет университета, но потом снова ушел в армию.
В этот период Януш познакомился с молодым юристом Керубином Колышко, который жил с родителями в небольшом доме возле костела Девы Марии на Новом Мясте. Керубин был своим человеком у Голомбеков, Януш встретился с ним у Оли. Отец Керубина был органистом в костеле и потому жил в служебном помещении на втором этаже, над богоугодным заведением княгини Анны Мазовецкой. Квартира представляла собой анфиладу старомодных комнат, просторных и низких, скромно обставленных такой же старомодной мебелью. Комната Керубина находилась в самом конце анфилады, и надо было пройти через всю квартиру, чтобы попасть в эту комнату, полную книг и каких-то странных вырезок из газет и журналов, которые были приколоты булавками к полинялым обоям. Дом зарос диким виноградом, густое сплетение зелени завешивало маленькое оконце. Свет, проникавший сюда, как бы просеивался через зеленое сито. Януш привык проводить здесь долгие часы, слушая рассуждения Керубина.
Имя молодого юриста, а кстати и поэта, пописывавшего сатирические стишки, резко контрастировало с его внешностью.{47} Высокий, тощий и неряшливый, с кривым носом, торчавшим над тонкими губами, Керубин был очень некрасив, но обладал неотразимой живостью ума и остроумием, которые так привлекали Януша. Иногда Януш отваживался противопоставить блистательным суждениям Керубина свое скромное мнение.
— Удивительно, — сказал он ему однажды, — каким робким сделала меня Варшава.
Разговор этот происходил после полудня в один из первых июльских дней того чудесного лета.
Керубин задумался на мгновенье, потом пристально посмотрел на своего нового друга.
— Сказать по правде, я вас не понимаю. Что вы имеете в виду?
Януш улыбнулся. С некоторых пор улыбка стала для него прекрасным средством самозащиты от людской назойливости.
— Видите ли, — сказал он, отводя глаза под взглядом Колышко, — я, хоть и истинный поляк, мало подготовлен к жизни в Варшаве. Я не очень-то понимаю этот город и, собственно говоря, не очень люблю его. С одной стороны, меня поражает, что масштабы здесь во всем намного скромнее тех, к которым я привык, с другой — я чувствую себя глупым и неуклюжим рядом с блестящими варшавянами. Вот, например, робею перед вами.
В улыбке Керубина мелькнуло превосходство.
— Знаете, нечто подобное происходит со всеми вами… Вы с Востока, и в этом все дело!
Януш отвернулся к окну. Потом начал расхаживать по просторной комнате.
— Мне кажется, — заговорил он с оттенком грусти, — эта ваша фраза доказывает, что вы ровно ничего не поняли. Не сердитесь, — добавил он, заметив возмущение Керубина. — Я не хотел вас уязвить! Но вы и в самом деле не понимаете. Когда я говорю о масштабах, я имею в виду наши, общепольские проблемы. У меня создается впечатление, что Варшава, собственно, не видит этих проблем, если даже такой умный человек, как вы, совершенно ложно судит о них. Вы даже не можете уяснить суть нашей беседы, а я не в состоянии более четко выразить…
Керубин пожал плечами.
— Надеюсь, вы не хотели меня оскорбить, — произнес он.
Януш продолжал расхаживать по комнате. В словах Колышко ему послышалось раздражение.
— Не принимайте близко к сердцу мои слова, — сказал он, приостановившись. — Просто я чувствую себя здесь чужим.
— Вы уже полтора года в Варшаве и до сих пор не освоились?
— Не освоился. Как видите.
— А чем вы, собственно, занимаетесь?
— Ничем, — Януш снова зашагал по комнате, — ничем. Хочу немного разобраться в людях, в политике… Поступил на юридический, сдал четыре экзамена, но, видите ли… нынешние университеты…
— А что вы намерены делать?
— Боюсь даже ответить вам на этот вопрос. Опять скажете, что это влияние Востока.
Керубин рассмеялся.
— Я действительно не понимаю вас, — сказал он. — Может быть, поэтому меня и влечет к вам…
— Спасибо, — бледно улыбнулся Януш. — Вы только не свалитесь со стула от моего ответа. Я ищу настоящих людей.
— Веселая затея. Долгонько придется искать!
И через минуту добавил:
— А зачем они вам?
— Может быть, они придадут какой-то смысл моему существованию. Настоящий человек… Вы представляете себе, как он выглядит?
Керубин снова рассмеялся.
— Простите, — сказал он, — а сколько вам лет?
Януш сухо, но беззлобно ответил:
— Двадцать четыре. Я воспитывался в богатой помещичьей семье.