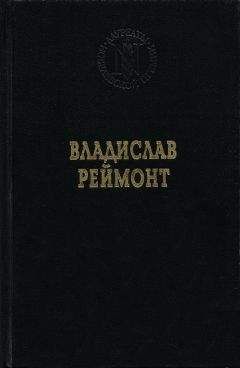— Чего там, ваш сын мне уже заплатил. Спокойной ночи, пани. — И он исчез в коридоре вместе с Яскульским, который пошел проводить доктора по переулкам до Пиотрковской.
— Дурацкая шляхетская фанаберия, — бормотал Высоцкий, шагая так быстро, что Яскульский еле за ним поспевал.
— Пан доктор, у вас для меня ничего не будет? — спросил Яскульский, наконец поравнявшись с доктором.
— Места есть, да только там надобно работать.
— Разве ж я не хочу работать?
— Может, вы и хотите, только в Лодзи хотенья недостаточно, здесь надо уметь работать. Почему вы, например, не остались у Вейсблата? Место было неплохое.
— Слово чести, я не виноват. Директор так меня преследовал, так ко мне придирался, что я не мог выдержать, меня постоянно оскорбляли…
— Тем, кто оскорбляет, дают по морде, но прежде всего надо не давать повода ни для насмешек, ни для оскорблений. Мне было стыдно за вас.
— Но почему? Я же честно работал.
— Да, знаю, но мне было стыдно за ваше разгильдяйство.
— Я работал, как умел и как мог, — со слезами в голосе возразил Яскульский.
— Да не плачьте же вы, черт возьми, вы же не подсовываете мне слепую лошадь, я вам и так верю.
— Слово чести, вы меня оскорбляете…
— Тогда возвращайтесь-ка с Богом домой, я и сам доберусь до Пиотрковской.
— Прощайте, — коротко ответил Яскульский и повернул обратно.
Высоцкому стало стыдно за свою грубость с этим растяпой, но уж слишком он его раздражал, невозможно было сдержаться.
— Пан Яскульский! — позвал он.
— Слушаю вас.
— Может, вам нужны деньги, я могу одолжить несколько рублей.
— Да нет, слово чести, благодарю вас, — слабо сопротивлялся Яскульский, уже смягчаясь и забывая об обиде.
— Вот, возьмите, а вернете мне все сразу, когда получите наследство от тетки.
Высоцкий сунул ему в руку трешку и пошел дальше.
Яскульский под фонарем сквозь слезы осмотрел бумажку, повздыхал и побрел домой.
Высоцкий же, выйдя на Пиотрковскую, медленно зашагал в гору, глубоко удрученный зрелищем нищеты, которое ежедневно представало перед ним.
Усталый, печальный его взгляд блуждал по зданиям притихшего города, по фабрикам, темневшим в глубине своих дворов, как черные спящие чудовища, по бессчетным светящимся окнам домов, глядевшим во влажную дождливую ночь. Высоцким владело странное раздражение и беспокойство, душу томил необъяснимый страх, смутная тревога, которая порой, без какой-либо внешней причины, нахлынет на нас, лишая покоя, и ты, изнервничавшись, с опаской смотришь на дома, не обрушатся ли на тебя, ждешь трепеща грозных известий, думаешь о всевозможных несчастьях, которые случаются с людьми.
Такое вот настроение было у Высоцкого.
Домой идти не хотелось, даже не было желания почитать газету в кондитерской, мимо которой он проходил, в эту минуту все ему было безразлично, тревога все сильнее вгрызалась в душу.
«Живу я по-дурацки, — думал он, — совершенно по-дурацки!»
Возле театра он столкнулся лицом к лицу с Мелей, она и Ружа возвращались со спектакля, экипаж ехал следом.
Высоцкий довольно холодно поздоровался и хотел было сразу откланяться.
— Ты не проводишь нас? — спросила Ружа.
— Я не хотел бы вам мешать.
— Идем выпьем чаю, дома уже, наверно, ждет Бернард.
Высоцкий молча пошел с ними, ему даже говорить не хотелось.
— Что с тобой, Высоцкий?
— Так, ничего, немного понервничал, как обычно, а теперь апатия.
— Что-нибудь случилось?
— Да нет, но почему-то я жду дурных вестей, а предчувствие еще никогда меня не обманывало.
— Меня тоже, только я стыдилась в этом признаться, — прошептала Меля.
— Вдобавок я сегодня был у бедняков, насмотрелся досыта на горе человеческое. — И от этого воспоминания Высоцкого всего передернуло.
— Ты просто болен состраданием, как говорит о тебе Бернард.
— Бернард! — воскликнул Высоцкий. — Да у него что-то вроде хронической delirium tremens[26], страсть все на свете оплевывать, он похож на слепого, который хочет убедить, что ничего нет, поскольку он ничего не видит.
— Что за бедняки? Может быть, надо им помочь? — спросила Меля.
Высоцкий описал положение Яскульских и еще нескольких рабочих семей.
Меля слушала с участием, стараясь запомнить адреса.
— Ну почему люди должны так мучиться? За что? — тихо произнесла она.
— Теперь я тебя спрошу, Меля, что с тобой? У тебя в голосе слезы.
— Не спрашивай, даже не пытайся узнать! — И Меля опустила голову.
Поглядев на ее лицо, Высоцкий не стал расспрашивать и снова погрузился в свои мысли.
Он смотрел на пустынные притихшие улицы, окаймленные пунктирными линиями фонарей, на ряды домов, похожих на окаменевшие головы чудовищ, улегшихся вповалку и в тяжелом, тревожном сне подмигивающих светящимися окнами.
«Что с ней?» — думал он, озабоченно всматриваясь в лицо девушки и чувствуя, что от ее печали и у него сердце начинает щемить и ныть.
— Видно, вы в театре не очень-то повеселились?
— Напротив! Как ужасна власть любви! — сказала Ружа, будто продолжая вслух свои мысли. — Как страдала Сафо! Все ее возгласы, мольбы, все ее терзания так и стоят в памяти, звучат в ушах. Меня такая любовь изумляет, я ее не понимаю, я даже сомневаюсь, что можно так глубоко чувствовать, так отдаваться любви, так в ней утонуть.
— Можно, можно… — прошептала Меля, поднимая глаза.
— Перейди на мою сторону, Высоцкий, подай мне руку!
И когда он повиновался, Ружа взяла его костистую руку и приложила к своему пылающему лбу и щекам.
— Чувствуешь, как меня лихорадит?
— Да, изрядно. Зачем же ходить на такие нервирующие пьесы?
— Но что же мне в конце концов делать! — горестно воскликнула Ружа и уставилась расширенными зрачками на его лицо. — Ты же ничем не можешь мне помочь против скуки, а мне уже опостылели все эти журфиксы, надоело разъезжать по городу, надоело ездить за границу, терпеть не могу жить в отелях, а театр иногда меня еще занимает, он щекочет нервы, он волнует, а мне приятно, когда меня что-то сильно волнует.
— Что с Мелей? — перебил он ее, не слушая, что она говорит.
— Сейчас узнаешь.
— Нет, нет, нет! — встрепенулась Меля, услышав вопрос и ответ Ружи.
Они зашли в ярко освещенную переднюю дворца Мендельсона.
— Пан Эндельман пришел? — спросила Ружа, небрежно бросая лакею шляпку и длинную пелерину.
— Он в «охотничьей» и просил, чтобы милостивые пани пришли туда.
— Идемте в «охотничью», там будет теплей, чем в моем будуаре, и теплей, чем здесь, — сказала Ружа, ведя их по анфиладе комнат, тускло освещаемых шестисвечным канделябром, который нес впереди лакей.
«Охотничья» была комната Станислава Мендельсона, младшего сына Шаи, и название ее пошло от ковра из тигровых шкур и таких же портьер и от мебели, украшенной буйволовыми рогами и обитой шкурами с длинной серой шерстью; на стене, вокруг огромной головы лося с могучими лопатовидными рогами, висело много всякого оружия.
— Целый час жду, — сказал Бернард, который, сидя под лосем, пил чай и даже не встал поздороваться.
— Почему ты не пришел в театр за нами?
— Потому что я никогда не хожу на все эти комедии, о чем ты прекрасно знаешь, это занятие для вас! — презрительно скривил он губы.
— Позер! — насмешливо бросила Ружа.
Они стояли вокруг столика и молчали, никому не хотелось разговаривать.
Лакей подал чай.
В комнате воцарилась гнетущая тишина, только потрескивали спички — это Бернард ежеминутно зажигал новую папиросу — да слышался глухой стук бильярдных шаров.
— Кто там играет?
— Станислав с Кесслером.
— Ты с ними виделся?
— Они мне очень скоро надоели и еще скорей обыграли. Ну, может, вы наконец начнете разговаривать?
Однако никто не начинал.
Мелю тревожили какие-то неприятные мысли, она грустно смотрела на Ружу и время от времени смахивала слезу.
— Фи, Меля, какая ты сегодня некрасивая! Плаксивые женщины похожи на мокрые зонтики — закроешь его или раскроешь, все равно каплет. Не выношу бабских слез, они или лживые, или глупые. Морочат нам голову или текут по глупейшим поводам.
— Полно тебе, Бернард, сегодня даже твои сравнения не производят никакого эффекта.
— Пусть болтает, это его специальность.
— Да и ты, Ружа, выглядишь не очень-то авантажно. Лицо такое, будто тебя кто-то в передней хорошенько потискал и обцеловал и это сладостное занятие было прервано на самом интересном месте…
— Ну, знаешь, ты сегодня отнюдь не блещешь благовоспитанностью.
— А мне на это наплевать.
— Но зачем же говорить глупости?
— А затем, что все вы какие-то сонные, а ты, Высоцкий, похож на сальную свечку, которая горит на субботнем столе и навевает печаль на прелестных Суламифей.