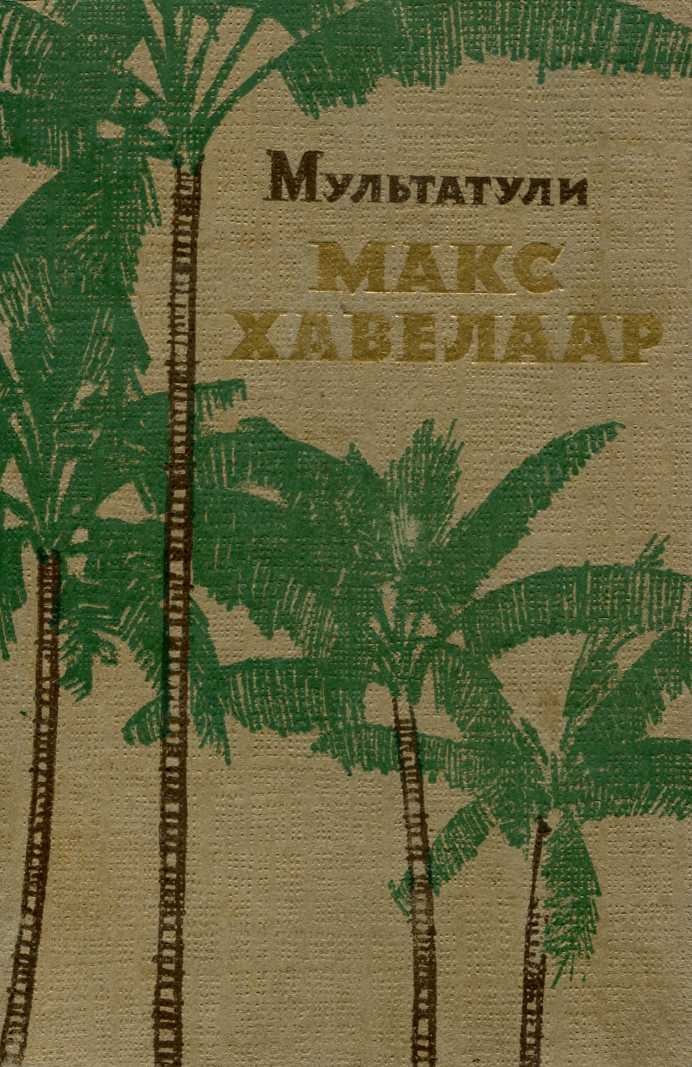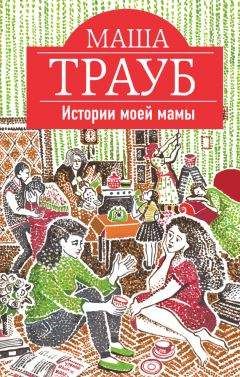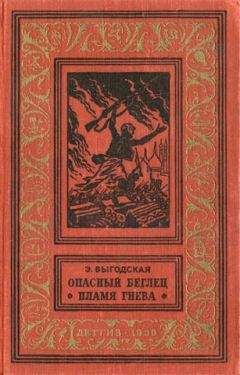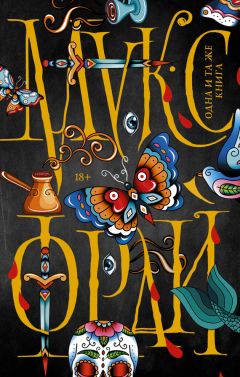заступничеству вашего могущественного кузена, то ли людям просто-напросто надоело вас задаром кормить, как канарейку в клетке, — и много позже, вплоть до сегодняшнего дня, вам иногда снилась ночью та женщина, и тогда вы кричали во сне и, испытывая желание задержать руку палача, в ужасе просыпались. Разве не так?
— Рад бы с вами согласиться, но ничего определенного утверждать не могу. Ведь я никогда не был в Фотерингее и никогда не смотрел там через отверстие в стене.
— Хорошо, хорошо! Я тоже там не был и тоже не смотрел. Но теперь я беру картину, изображающую отсечение главы Марии Стюарт. Допустим, что выполнена картина с верхом совершенства. Вот она в золотой раме, подвешенная на красных шнурах. Знаю, что вы собираетесь возразить. Ну, пусть не будет рамы, — вы ее не видите. Вы даже забыли, что оставили вашу трость при входе в картинную галерею... вы забыли свое имя, собственных детей... забыли новый фасон полицейских фуражек, словом — решительно все на свете, чтобы погрузиться в созерцание не картины, а настоящей Марии Стюарт, совсем как в замке Фотерингей. Палач стоит именно в той позе, в какой ему надлежит стоять в действительности. Я даже иду еще дальше и допускаю, что вы протягиваете руку, желая предотвратить удар! Допускаю, что вы восклицаете: «Сохраните этой женщине жизнь, — может быть, она еще исправится!» Вы видите, что, приняв выполнение картины за совершенное...
— Да, но что же дальше? Разве впечатление не окажется столь же сильным, как если бы я все это созерцал в действительности, находясь в Фотерингее?
— Нет, совсем нет, и как раз потому, что вам не пришлось взобраться на стул с тремя ножками. Теперь вы сели на стул с четырьмя ножками, может быть даже на кресло. Вы усаживаетесь перед картиной, собираясь долго и как следует ею наслаждаться, — ведь можно наслаждаться и созерцанием отвратительного, — и как бы вы думали, какие чувства вызовет у вас эта картина?
— Я думаю, сострадание, страх, ужас... те же чувства, какие бы я испытал, заглянув в отверстие в стене. Мы ведь предположили, что картина совершенна; значит, она должна произвести на меня точно такое же впечатление, как и самая действительность.
— Нет! Пройдет всего лишь две минуты, и вы ощутите боль в правой руке из сострадания... к палачу, которому так долго приходится стоять и держать в высоко занесенной руке тяжелый стальной предмет.
— Сострадание к палачу?
— Да! Сострадание, сочувствие, понимаете? А также сострадание к женщине, которой так долго приходится стоять перед плахой в неприятной позе и, надо думать, в еще более неприятном душевном состоянии. Вы продолжаете ей сочувствовать, но теперь уже не потому, что она будет обезглавлена, а потому, что ее так долго заставляют ждать, чтобы оказаться обезглавленной, и если вам наконец захочется что-либо сказать или крикнуть, — допустим, у вас возникнет желание вмешаться, — то вы воскликнете приблизительно следующее: «Ради бога, палач, руби! Ведь человек ждет!» А если вам позже придется снова увидеть эту картину, и не один раз, вашим первым впечатлением от нее будет: «Как? канитель еще не окончена? Он все еще стоит, а она все еще ждет, склонившись перед плахой?»
— А что за движение есть в красоте женщин Арля? — спросил Фербрюгге.
— О, это совсем другое! В их чертах живет история. На их лицах процветает и строит корабли Карфаген... Ганнибал клянется в вечной ненависти к Риму... Они плетут тетивы для луков... Потом пылает город...
— Макс, Макс, я, право, думаю, что ты в Арле потерял свое сердце! — воскликнула Тина.
— Да, на одно мгновение. Но тут же нашел eго снова. Вы должны об этом послушать. Представьте себе... Я не говорю, что встретил там одну женщину, которая была неописуемо прекрасна; нет, все они были прекрасны, и потому оказалось совершенно невозможным без памяти влюбиться лишь в одну, ибо каждая последующая затмевала своей красотой предыдущую, и я, право, вспомнил Калигулу или Тиберия, — о ком из них говорит предание, что он желал одной головы для всего человеческого рода? Так вот и во мне невольно возникло желание, чтобы у всех женщин Арля...
— Была одна общая голова?
— Да...
— Чтобы ее отрубить?
— Нет! Чтобы... поцеловать ее в лоб, хотел я сказать, но это совсем не то1 Чтобы на нее смотреть, о ней мечтать и... быть добрым!
Дюклари. и Фербрюгге последние слова Хавелаара, наверно, показались очень странными. Но Макс, не замечая их удивления, продолжал:
— Потому что их черты были исполнены такого благородства, что, любуясь ими, становилось стыдно быть всего-навсего человеком, а не искрой, не лучом... нет! Искра и луч слишком материальны... Любуясь ими, хотелось перенестись в мир чистых идей... Но... рядом с девушками находились братья или отцы, и — помилуй меня боже! — я видел, как одна из них высморкалась!
—Я так и знала, что ты в конце поставишь черную кляксу и испортишь все впечатление, — сказала Тина недовольно.
— Ничего не могу поделать. Мне было бы легче увидеть ее падающей мертвой! Разве смеет такая красавица себя профанировать!
— Но, мейнхер Хавелаар, — возразил Фербрюгге, — если она простудилась и у нее насморк?
— Обладая таким красивым носом, она не смеет простуживаться!
— Да, но...
И тут, будто по чьему-то злому волшебству, Тина внезапно чихнула, а потом, не задумываясь, высморкалась!
— Милый Макс, ты не очень на меня за это рассердишься? — спросила она с едва сдерживаемым смехом.
Он не ответил. И, как ни покажется это странно, он действительно рассердился! И еще удивительнее: Тине было приятно, что он рассердился; что он требовал от нее большего совершенства, нежели от финикийских женщин Арля, хотя у нее и не было причин особенно гордиться своим носом.
Если Дюклари и раньше считал Хавелаара большим чудаком, то теперь ему никак нельзя было поставить в упрек, что он утвердился в своем мнении еще сильнее, увидев выражение растерянности, появившееся на лице Хавелаара после того, как жена его чихнула. Однако Хавелаар уже успел