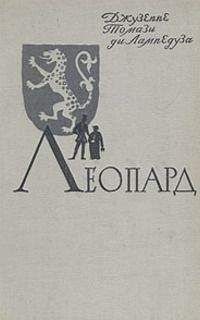В пустой буфетной одни порожние блюда и бокалы с остатками вина, которое, оглядываясь по сторонам, поспешно допивают лакеи. Плебейский свет зари проникает сквозь щели ставен.
Наступило время расходиться, и донну Маргериту окружила толпа прощающихся гостей.
— Великолепно!
— Мечта!
— По-старинному!
Танкреди пришлось немало потрудиться, пока он разбудил дона Калоджеро, уснувшего в отдаленном кресле, откинув назад голову; брюки его при этом поднялись до колен, а над шелковыми носками виднелись края кальсон, какие носят в деревне.
У полковника Паллавичино тоже появились мешки под глазами, но тем, кто желал его слушать, он заявлял, что домой не пойдет, а прямо из замка Понтелеоне отправится на плац для учений; к этому его призывала железная традиция, велениям которой следовали приглашенные, на бал офицеры.
Когда вся семья уселась в коляску (подушки отсырели от росы), дон Фабрицио сказал, что вернется домой пешкам; ему полезно немного подышать свежим воздухом и рассеять легкую головную боль. Но совести говоря, ему хотелось, глядя на звезды, вернуть себе немного покоя.
В самом зените еще мерцали звезды. Как всегда, глядя на них, он ощутил бодрость: далекие и всемогущие, они в то же время были покорны его расчетам — в противоположность людям, всегда слишком близким, слабым и все же таким непокорным.
На улицах понемногу начиналось движение: проезжали возы с горами мусора, вчетверо превышавшими рост тащившего их серого ослика. На длинной открытой повозке были свалены волы, только что заколотые на бойнях; уже разделанные, они с бесстыдством смерти выставляли напоказ свои обезображенные туши. На мостовую через равные промежутки падали густые красные капли.
Войдя в боковую улочку, дон Фабрицио взглянул на восточную часть неба над морем. Там была Венера, окутанная тюрбаном осенних испарений. Она всегда верна, всегда поджидает дона Фабрицио — в Доннафугате до охоты и теперь в Палермо после бала.
Дон Фабрицио вздохнул. Когда же она решится назначить ему менее призрачное свидание, вдали от мусора и крови, в своем царстве вечной уверенности?
Смерть князя
Июль 1883
Это ощущение уже давно знакомо дону Фабрицио. Вот уже много лет он чувствовал, как его постепенно, но неотступно покидали жизненные силы — сама способность существовать, сама жизнь уходила, подобно песчинкам, которые теснятся у узкого отверстия песочных часов и затем падают туда одна за другой, не торопясь, но и не останавливаясь ни на миг. Порой в минуты напряженной, требующей пристального внимания деятельности исчезало это ощущение постепенного угасания, чтобы затем при первой же передышке или попытке заглянуть внутрь себя снова возникнуть с прежней назойливостью: так бывает, когда в полной тишине вдруг раздается звон в ушах или стук маятника, желающего убедить вас, что он на страже, даже если его и не слышно.
В иные минуты дону Фабрицио достаточно было лишь немного сосредоточиться, чтоб ощутить шорох этих легко ускользавших песчинок — мельчайших отрезков времени, которое уходило от него навсегда. Впрочем, поначалу это ощущение вовсе не было связано с плохим самочувствием. Более того, неосязаемая утрата жизненности была доказательством и даже, если так можно сказать, условием самого существования.
Для него, человека, привыкшего исследовать беспредельные внешние просторы и сокровеннейшие глубины духа, не было ничего неприятного в этом ощущении постоянного распада мельчайших частиц собственной личности и в то же время смутного предвкушения ее воссоздания в ином месте, где она (возблагодарим Господа) будет обладать менее осознанным, но более свободным существованием. Песчинки не пропадали, они лишь исчезали, чтоб затем сосредоточиться где-то, образовав плотную массу. Впрочем, подумал он, масса весома, масса — это не то слово, да и песчинки тоже не то. Не песчинки — скорей частицы водянистого пара, испарения пруда без стока, которые, подымаясь к небу, скоплялись в большие, легкие облака. Порой он удивлялся, что после стольких лет и стольких потерь в его водохранилище еще могло что-то сохраниться. («Верно, оно глубиной с целую пирамиду!»)
Однажды он с гордостью подумал, что, кроме него, почти никто не обнаруживает этого непрестанного бега времени; вокруг него никто, казалось, не ощущал ничего подобного. В этом князь находил повод, позволявший ему презирать всех прочих, подобно тому как старый солдат презирает новобранца, принимающего за безобидных мух пули, которые свистят вокруг. Трудно сказать отчего, но в таких вещах не признаются — пусть другие догадываются сами; из его близких не догадался никто: ни дочери, представлявшие себе загробный мир как нечто вполне тождественное жизни, считавшие, что и по ту сторону существуют суды, повара, монастыри; ни Стелла, пожираемая язвой диабета и все же упорно цеплявшаяся за это мученическое существование.
Быть может, лишь Танкреди понял его на мгновение, когда с упрямой иронией сказал: «Ты, дядюшка, ухаживаешь за смертью».
Теперь ухаживанию пришел конец: красавица сказала свое «да», побег был делом решенным, в поезде для неге оставлено купе.
Теперь дела обстоят совсем по-иному. Сидя сейчас в кресле, на балконе отеля Тринакриа, вытянув длинные ноги, укутанные одеялом, он чувствовал, как жизнь покидает его большими, набегающими друг на друга волнами, с грохотом, подобным шуму рейнского водопада. То были полуденные часы последнего понедельника июля, и перед ним простиралась палермская бухта; море, плотное, маслянистое, ленивое, застывшее в неподвижности, вытянулось, как пес, который хочет стать невидимкой, чтоб укрыться от хозяйского гнева; но солнце, столь же недвижно стоявшее прямо над морем на своих широко расставленных ногах, нещадно хлестало его своими лучами. Ни звука вокруг — в этот палящий полдень дон Фабрицио слышал лишь шум рвавшейся наружу, покидавшей его жизни.
Утром, всего несколько часов тому назад, он прибыл из Неаполя, куда отправился за советом к профессору Семмола. В сопровождении своей сорокалетней дочери Кончетты и внука Фабрициетто он предпринял эту поездку, мрачную и медлительную, как похоронное шествие. Сутолока в порту Неаполя, кислый запах каюты, непрестанные крики в этом бредовом городе вызвали в нем то чувство жалкого ожесточения, которое овладевает слабыми людьми, гнетет их и клонит к земле, вызывая лишь ответное раздражение у прочих добрых христиан, рассчитывающих на собственное долголетие.
Из Неаполя он пожелал возвращаться сушей; врач возражал против неожиданного решения, но тень его престижа была еще столь внушительна, что он сумел настоять на свеем. В результате он вынужден был тридцать шесть часов провести взаперти в раскаленней коробке, задыхаясь от дыма в туннелях, которые чередовались, как лихорадочные сны, слепнуть от солнца на открытых местах, где перед ним во всей своей обнаженности представала печальная действительность, и вдобавок еще унижаться, без конца обращаясь к напуганному внуку за самыми низменными услугами. Они проезжали мимо прокаженных мест, забирались на проклятые горные перевалы; пересекали онемевшие малярийные долины; эти картины Калабрии и Базиликаты казались ему варварскими, хотя они мало чем отличались от виденных им у себя в Сицилии.
Железная дорога еще не была закончена: у Реджо она круто сворачивала к Метапонте, проходила по некоему подобию лунных пустынь, которые лишь в насмешку носили название Кротоне и Сибари. (Города в Италии, которые в глубокой древности вели между собой борьбу) Затем сразу же после лживой улыбки пролива — Мессина и, словно уличавшие ее во лжи, выжженные холмы Пелоритано; и снова поворот, долгий, как жестокая процедурная задержка. К Катанье — спуск, и опять подъем к Кастроджованни; казалось, что едва дышавший от натуги паровоз, взбираясь на эти легендарные холмы, подохнет, как перетруженная лошадь.
Наконец после нового шумного спуска прибыли в Палермо. При встрече все те же маски родных с нарисованной на лицах довольной улыбкой по случаю удачного исхода поездки. Эти ободряющие улыбки ждавших его на вокзале родных и неумелее притворство, с которым они напустила на себя веселый вид, открыли подлинное значение диагноза Семмола, который ему самому сказал лишь одни успокоительные фразы. Грохот водопада раздался именно в ту минуту, когда он, выйдя из поезда, обнимал невестку, облаченную во вдовий траур, детей, обнажавших зубы я улыбке, Танкреди, глядевшего озабоченно, и Анджелику, высокую грудь которой тесно облегал шелк блузки.
Должно быть, он потерял сознание, потому что не помнит, как добрался до коляски; очнувшись, он увидел, что лежит, поджав под себя ноги, и подле него один лишь Танкреди. Коляска еще не тронулась с места, и до него долетали обрывки разговора родных: «Это ничего», «Поездка была слишком долгой», «От такой жары у нас, пожалуй, у всех будет обморок», «Его чересчур утомит переезд на виллу».