Но от листков, покрытых каракулями Дэнни, и от благодарного взгляда Марулло сердце щемило тоской.
Говорят, накануне решающей битвы люди не могут уснуть. Со мной этого не было. Сон сморил меня быстро, крепко и основательно и так же легко отпустил в предрассветный час. Но на этот раз я не лежал, размышляя, впотьмах. Прошлое властно призывало меня. Я тихонько выскользнул из постели, оделся в ванной и спустился с лестницы, стараясь держаться поближе к стене. Странное дело – ноги как бы сами привели меня к горке в гостиной, я отпер ее и ощупью нашел розоватый камешек. Я сунул его в карман, потом закрыл горку и запер ее на ключ. Ни разу в жизни я не уносил камешек из дому и еще вчера не знал, что возьму его с собой на этот раз. Я без труда пробрался знакомой дорогой через темную кухню и вышел во двор, где уже редела ночная тьма. Вязы сплетались толстыми от листвы ветвями, образуя сплошной черный свод. Если бы «понтиак» Марулло был уже у меня, я уехал бы из Нью-Бэйтауна в пробуждающийся мир моих первых воспоминаний. Держа руку в кармане, я вел пальцем по бесконечной извилине, прорезающей мой теплый от близости тела заветный камешек – мой талисман. Талисман?
Тетушка Дебора, ребенком посылавшая меня на Голгофу, была точна как машина во всем, что касалось слов. Она не терпела тут ни малейшей расплывчатости, неясности и требовала того же от меня. Сколько силы было в этой старой женщине! Если она жаждала бессмертия, она его обрела – в моей памяти. Когда она первый раз увидела у меня в руке камешек с причудливой извилиной, по которой я водил пальцем, она сказала:
– Итен, эта заморская диковина может стать твоим талисманом.
– А что это такое – талисман?
– Если я тебе скажу, у тебя в одно ухо войдет, в другое выйдет. Посмотри в словаре.
Сколько слов укоренилось в моем обиходе благодаря тетушке Деборе, которая всегда сперва старалась заинтересовать меня непонятным словом, а потом заставляла самостоятельно доискиваться до его значения. Я, конечно, ответил:
– Очень нужно!
Но она хорошо знала, что я полезу в словарь, и еще раз произнесла – с расстановкой, чтобы мне легче было запомнить:
– Та-лис-ман.
Она с глубоким уважением относилась к словам, и небрежное обращение с ними раздражало ее так же, как небрежное обращение с любой хорошей вещью. И сейчас, столько лет спустя, я словно вижу перед собой страницу словаря со словом «талисман». Арабское написание было для меня просто извилистой линией с кружком на конце. Греческое я мог прочитать благодаря той же неутомимой тетушке Деборе. «Камень или другой предмет с выгравированными на нем буквами или рисунками, которому приписывается оккультная сила, связываемая с влиянием планет или знаков зодиака, часто носится как амулет, могущий, по поверью, оградить от зла или принести удачу.
После этого мне пришлось искать в словаре «оккультный», «планеты», «зодиак», «амулет». Так бывало всегда. Одно слово поджигало десяток других, как шутихи, нанизанные на нитку.
Когда я после спросил ee:
– А вы верите в талисманы? – она возразила:
– А при чем это тут, верю я или не верю?
Я сунул ей в руки камешек.
– Что означает этот рисунок?
– Талисман твой, не мой. Он означает то, чего ты от него ждешь. Положи его на место. Придет время – он тебе пригодится.
Сейчас, шагая под вязовым сводом, я видел ее перед собой как живую, а это и есть истинное бессмертие. Вилась, кружилась по камню резвая извилина, петляла и снова кружилась и вилась, точно змея без головы, без хвоста, без конца, без начала. Первый раз я взял талисман с собой, уходя из дома – зачем? Чтобы он оградил меня от зла? Или принес мне удачу? Но я не верю в оккультную силу, а бессмертие всегда казалось мне жалким утешением, выдуманным для отчаявшихся.
Светлая полоса на востоке – это уже был июль, потому что июнь ночью кончился. Июньское золото в июле становится медью. Июньское серебро – свинцом. Листва в июле тяжелая, тучная, густая. Птицы поют в июле однообразно, крикливо, без страсти, потому что гнезда уже опустели и оперившиеся птенцы делают первые неуклюжие попытки летать. Да, июль – уже не пора надежд и еще не пора свершений. Плоды хоть и зреют, но пока безвкусны и бесцветны. Кукуруза похожа на бесформенный зеленый сверток с желтой кисточкой на конце. На тыкве, как неотпавшая пуповина, торчит засохший венчик цветка.
Я вышел на Порлок, сытый, упитанный Порлок. Медные отсветы зари окрасили кусты роя, гнущиеся под тяжестью перезрелых цветов, точно женщины, у которых живот уже не стянут корсетом, хотя ноги еще стройны и красивы. Я медленно брел по тротуару и мысленно говорил «прощай» – не «до свидания», а «прощай». «До свидания» звучит нежной грустью и надеждой. «Прощай» – коротко и безвозвратно, в этом слове слышен лязг зубов, достаточно острых, чтобы перекусить тонкую связку между прошлым и будущим.
Вот и Старая гавань. Чему же я говорил «прощай»? Не знаю. Не могу припомнить. Кажется, я хотел пойти в Убежище, но всякий, кто вырос на море, знает, что сейчас время прилива и Убежище залито водой. Прошлой ночью я видел луну, ей всего четыре дня от роду, и она похожа на выгнутую хирургическую иглу, но в ней уже достаточно силы, чтобы притянуть темные волны прилива к устью моей пещеры.
И в хижину Дэнни Тейлора незачем идти. Уже рассвело настолько, что видно, как высоко поднялась трава в том месте, где раньше была тропка, протоптанная ногами Дэнни.
В водах Старой гавани темнели пятнами летние суденышки, стройные корпуса, снасти, прикрытые брезентом. Кое-где любители раннего вставанья уже готовились к выходу в море, ставили кливера и гроты, и паруса, освобожденные от чехлов, лежали кучей на палубе, точно большое взъерошенное белое гнездо.
В новой гавани было оживленней. У причалов наемные лодки ожидали пассажиров, одержимых рыболовов-отпускников, которые денег не жалеют, а к концу дня растерянно озираются, не зная, что делать с массой рыбы, завалившей лодку. Полны все мешки, все корзины, громоздятся на дне кучи триглы, морского леща и морского окуня, и даже мелкой акулы-колючки, и все это задыхается и гибнет и будет выброшено обратно в море, чайкам на съедение. А чайки уже слетелись и ждут, они знают эту породу рыболовов, жертв собственной жадности. Кому охота чистить и потрошить целый мешок рыбы? А отдать рыбу даром трудней, чем наловить ее.
По маслянистой глади залива уже разлилось медное сияние. У входа в канал словно замерли буйки разной формы и под каждым стоял в зеркале воды его близнец.
Я дошел до флагштока и остановился у памятника в честь героев войны. Там среди выбитых серебром имен уцелевших я прочел и свое имя: Капитан И.А.Хоули, а ниже золотом были выбиты имена восемнадцати нью-бэйтаунцев, которые так и не вернулись домой. Большинство имен было мне знакомо – когда-то я знал и самих людей, и они тогда ничем не отличались от нас, а теперь отличаются тем, что их имена написаны золотом, а не серебром. На мгновение я подумал, что хорошо бы и мне числиться среди них. «Капитан И.А.Хоули» – золотом внизу списка, там, где трусы и симулянты, размазни и герои – все уравнены золотой вязью букв. Ведь не только храбрые погибают в бою, но храбрые погибают чаще.
Подъехал толстяк Вилли, остановил машину у памятника, вылез и достал с заднего сиденья свернутый флаг.
– Здорово, Ит. – Он вдел стержни в медные скобки и медленно поднял флаг на вершину флагштока, где он поник безжизненно и уныло, точно висельник в петле. – Доживает свой век, – сказал Вилли, слегка отдуваясь. – Уже и вида никакого нет. Ну, еще два дня, а там поднимем новый.
– С пятьюдесятью звездами?
– Именно. И хорош же – нейлоновый, огромный, в два раза больше этого, а весит вдвое меньше.
– Как дела, Вилли?
– Да жаловаться вроде не на что, но я все-таки пожалуюсь. С этим Четвертым июля всегда не оберешься хлопот. Да еще когда оно после воскресенья – это, значит, вдвое больше несчастных случаев, катастроф, пьяных драк, особенно за городом. Садитесь, подвезу до лавки.
– Нет, спасибо. Мне еще нужно на почту, а кроме того, хочу зайти выпить чашку кофе.
– Ладно. Подвезу до почты. Я бы и покофейничал с вами, да Стони теперь злой, как собака, лучше с ним не связываться.
– С чего это он?
– Черт его знает. Куда-то уезжал на несколько дней и вернулся злее злющего.
– Где же это он был?
– Понятия не имею. Знаю только, что теперь к нему и не подступись. Ну идите, получайте свою почту. Я подожду.
– Не стоит, Вилли. Мне еще и отправлять письма надо.
– Ну, как хотите. – Он развернулся и поехал по Главной улице в обратную сторону.
На почте было еще полутемно, пол только что натерли, и при входе висел плакатик: «Осторожно, не поскользнитесь».
Наш абонементный ящик – N 7, мы им пользуемся с тех пор, как построено здание почты. Я набрал на диске Г 1/2 Р и вынул из ящика целую кучу проспектов и завлекательных рекламных листовок, адресованных «Абоненту». Больше ничего не было – только этот материал для мусорной корзины. Я пошел вдоль Главной, по направлению к «Фок-мачте», но в последнюю минуту передумал – расхотелось пить кофе или не захотелось разговаривать, сам не знаю что. Просто у меня вдруг пропало желание идти в кафе. Что за клубок противоречивых побуждений человек – все равно, мужчина или женщина.
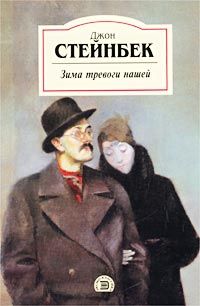
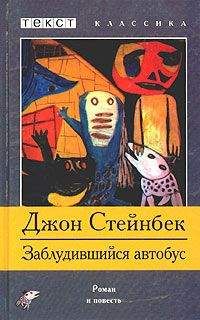
![Джон Стейнбек - Зима тревоги нашей [litres]](https://cdn.my-library.info/books/135079/135079.jpg)


