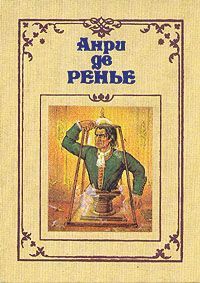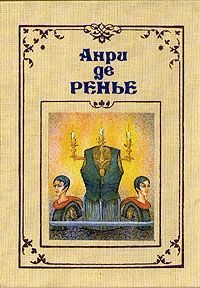Вот каким образом стали зарождаться в моей детской голове химерические видения жизни, стали складываться мечты, назначение которых было управлять моим существованием. Увы, теперь мне уже известны их прискорбные результаты. Они сделали меня бедняком, каким я остался и посейчас; по их милости пеньковая петля чуть было не вздернула меня на виселицу. Правду сказать, я не очень бы восстал против такой развязки. В возможности быть повешенным есть нечто выходящее за пределы банального течения жизни. Но и в этом отношении я сделался игрушкой коварных обстоятельств. Однако не будем забегать вперед и возвратимся опять к тому времени, когда мне было всего только тринадцать лет.
Я снова вижу себя таким, каким видел себя тогда в четырехугольном зеркале, висевшем на стене моей каморки. Мне уже не нужно было подниматься на цыпочки, чтобы в него посмотреться, с годами я стал выше, и в фигуре моей начала сказываться отроческая неуклюжесть. Ни отец, ни мать не обращали внимания на то, что я расту, и совсем не думали, что уже недалек тот чае, когда нужно будет приставить меня к какой-либо работе и выбрать для меня профессию. В ожидании предстоящего решения я продолжал наслаждаться своею праздностью. Она, впрочем, нисколько меня не тяготила. Дни мои походили один на другой, но я никогда не находил их слишком длинными. Побродив вволю по улицам Виченцы, я приходил и садился у дверей нашей лавки на большую тумбу, стоявшую около, и оттуда начинал свои наблюдения. Я оставался там очень долго, прислушиваясь к стуку отцовского молотка или к звукам голоса матушки. Отец размеренными ударами бил по коже, а мать очень часто напевала какую-нибудь арию под рассеянные движения своей иголки, но главной приманкой выбранного мною пункта был вид, открывавшийся на фасад дворца Вилларчьеро, что стоял, как уже было сказано, как раз напротив нашего дома. Улица в этом месте была довольно узкая, и массивная громада дворца Вилларчьеро величественно убегала вверх своими высокими окнами, плоскими колоннами, статуями и всей своей богатой, напыщенной отделкой, вычерченной циркулем великого Палладио. С каким любопытством устремлялись мои глаза на этот фасад и на широкие ворота, дававшие доступ во внутренний двор! Ворота эти обладали для меня особой притягательной силой. Через них проходили и беспрестанно сновали взад и вперед посетители, так как дворец Вилларчьеро был очень оживлен. Я видел, как туда проходили слуги и люди всякого звания, имеющие отношение к жизни такого вельможи, каким был граф Вилларчьеро, – все, начиная с аббатов и кончая учителем танцев. Проезжали также кареты с гостями, и особенно красиво было, когда оттуда показывалась карета графа и графини. Ее тащили две большие лошади с заплетенными хвостами. Правил дородный кучер. Лакеи, стоявшие на подножках сзади, были в золотых ливреях. Сквозь стекла я мог видеть высокую прическу графини и пышный напудренный парик самого графа. От этого замечательного зрелища сердце у меня начинало биться сильными ударами.
Быть может, эти наивные переживания вызовут улыбку, но заслугой их является то, что они были вполне искренни. Никогда еще смертные не были предметом более простодушного восхищения. Какие замечательные подвиги должны были они совершить, чтобы удостоиться подобных преимуществ? И тут романтическое воображение, унаследованное мною от матери, вступало в свои права. Хотя она и не делилась со мною своими мечтаниями, кое-что я угадывал из обрывков разговора, так как матушка доходила иногда до того, что избирала отца в поверенные своих бредней. Он широко раскрывал глаза и ни слова не понимал в ее разглагольствованиях, но мой юный слух был полон внимания и не пропускал ни единого звука. Я находил в них поощрение для своих собственных фантазий и отдавался им с еще большей свободой.
А поэтому я не переставал приписывать графу, графине и самому себе самые удивительные приключения, из которых самое скромное, несомненно, их чрезвычайно бы удивило. Одним словом, я сочинял глупости, но в глупостях этих не было ничего недостойного й в них не стыдно сознаться. И вы узнаете из них самую главную, если я вам открою, что я ни на секунду не задумывался выполнить самое трудное предприятие, лишь бы только удостоиться чести показать себя с выгодной стороны графу и графине. Чтобы достигнуть своей цели, я придумывал подходящие положения. Я представлял себе, например, что, останавливая лошадей, которые понесли было их карету, я попал под нее. Меня подымают, я почти раздавлен колесами, но каким взглядом признательности платили за мой подвиг эти благородные люди! О, как охотно прогнал бы я разбойников, если бы они на них напали, и с каким гордым лицом вернулся бы обратно в Виченцу! Мне хотелось взять в плен турецкого султана только для того, чтобы привести его закованным в цепи во дворец Вилларчьеро. Но лихорадочное состояние, в которое приводили меня подобные фантасмагории, продолжалось недолго, и я падал со своих высот и понимал, что я всего-навсего маленький мальчик, сидящий на тумбе, весь ушедший в свои пустые фантазии. Тем не менее даже сознание низкого происхождения и слабости моего детского возраста не могло вырвать из сердца героических мечтаний, его обуревавших. Мне казалось, что придет день и сам собой представится случай выказать себя тем, чем я себя воображал, и надежда эта поддерживала иллюзии и безумства.
Фантасмагории мои, бывало, нарушались дружеским щелчком в ухо или похлопыванием по плечу. Это добрый аббат Клеркати выводил меня из задумчивости. Аббат Клеркати был знакомым моих родителей. Он любил их за набожность и добрые нравы и нередко заходил к нам на несколько минут поболтать. Он любил простодушную важность отца и с удовольствием вовлекал матушку в разговор на ее любимые темы, ибо тонкий ум его сразу разобрался в характерах моих родителей. Чтобы отблагодарить его за интерес, который аббат к ним выказывал, отец и мать подносили ему время от времени в презент пару башмаков или какой-нибудь изящный вышитый воротничок. Аббат был весьма чувствителен к такому баловству. Это был толстый человек с головой куклы, и выражение доброты и мягкости было разлито у него по всему лицу. Костюм его всегда был весьма опрятен, он любил хорошее общество и, конечно, ухаживал бы за женщинами, если бы это позволяло ему его звание, так что в этом отношении добрый аббат, хотя и не был безупречен, мог упрекнуть себя только в самых невинных грешках. За всем тем он был весьма ученый человек и отличный латинист. Граф Вилларчьеро его высоко ценил за прекрасные эпитафии и торжественные надписи, составленные в честь семьи Вилларчьеро. Что до графини, то и она не оставалась бесчувственной к одам, элегиям и мадригалам, посвященным ей аббатом, тем более что, по общему отзыву, они были достойны лучших поэтов древности. Поэтому аббат Клеркати был своим человеком во дворце Вилларчьеро и постоянно проходил мимо наших дверей, когда шел свидетельствовать свое почтение графу и графине. В таких случаях он не преминет, бывало, если только я находился тут и сидел на тумбе, вытащить из кармана какое-нибудь лакомство (а у него всегда был запас не столько для себя, сколько для любимого мопса графини) и сказать мне несколько ласковых слов:
– О боги! Чем занят ты, Тито? Ты зеваешь на ворон, можно подумать, ты гадаешь по птицам? Лучше бы зашел ко мне подучить немного латынь или поиграл бы с товарищами, чем сидеть тут на камне, свесив ноги; уж не говорю о том, что в один прекрасный день карета господина графа переломает их тебе, въезжая в ворота.
От этого обращения я смущенно потуплял голову и краснел от удовольствия. Чего бы я не дал, в самом деле, если бы угроза аббата оправдалась! Я готов был снести горчайшие муки, пусть бы только они остановили на мне взгляд графа. Мало того, они были мне отрадны и сладостны. Да, могу сознаться в этом без стыда. Я был наивен, но по-своему я был чем-то вроде героя. Жажда славы владела мною, именно она, и не что иное сказывалось во мне в меру моих сил, и именно она вместе со стремлением к геройству зародила во мне желание быть красивым.
Как раз в это самое время я впервые заинтересовался чертами своего лица и рассматривал его с особою целью: совсем не для того, чтобы удостовериться, хорошо ли оно вымыто. Я помню, как однажды пополудни, опершись на перила моста Сан Микеле, я рассматривал в водах Ретроне отражение своего лица. С грустью мне пришлось убедиться, что в нем не было ничего замечательного. Оно показалось мне кротким, правильным, слегка вялым, легко изменявшимся от движений мускулов. Ему не хватало той твердости контуров, какую я видел на лицах статуй. Я искал таких же благородных пропорций, но, увы, никак не мог их найти.
Итак, я весь ушел в свои размышления, как вдруг они были прерваны довольно сильным тумаком в спину. Я круто повернулся и сверкнул глазами на непрошеного гостя, смутившего мой покой. Передо мной стоял Джироламо Пескаро, мальчик моего возраста, которого я встречал у маэстро. Мы прошли с ним вместе азы. Все же я страшно рассвирепел, но ярость моя не только не испугала Джироламо, а заставила его закатиться смехом, смехом, который становился все сильней по мере того, как я все больше распалялся гневом. Должно быть, вид у меня был очень забавный, потому что Джироламо буквально хватался за бока. Это обстоятельство привело меня в смущение и остановило руку, поднявшуюся было на насмешника. Джироламо воспользовался этим и крикнул: