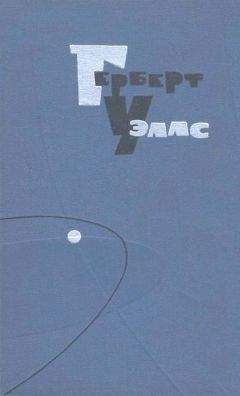Он унесся мыслями в прошлое и вдруг вспомнил далекий теплый летний вечер.
— Слышь, Энн, а помнишь майских жуков?
Но вспомнился ему тот вечер вовсе не из-за жуков. Самое главное, о чем они оба тотчас подумали, — что он так ни разу ее и не поцеловал. Киппс поднял глаза и увидел губы Энн.
И опять ему нестерпимо захотелось поцеловать ее. Словно не было долгих лет разлуки. И вот он снова, как прежде, одержим этим желанием, а все иные желания и решения вылетели у него из головы. И ведь с той мальчишеской поры он кое-чему научился. На этот раз он не стал спрашивать позволения. Он как ни в чем не бывало продолжал болтать, но каждый нерв его трепетал, как струна, а мысль работала быстро и четко.
Он огляделся по сторонам и, убедившись, что вокруг никого нет, подсел к Энн поближе и сказал — какой прозрачный сегодня воздух; кажется, до Дандженесского маяка рукой подать.
И снова они оба замолчали. Проходили минуты.
— Энн, — прошептал Киппс и обнял ее дрожащей рукой.
Она не произнесла ни слова, не противилась, и (ему суждено было потом об этом вспомнить) лицо у нее стало очень серьезное.
Он повернул это лицо к себе и поцеловал ее в губы, и она ответила ему поцелуем — бесхитростным и нежным, как поцелуй ребенка.
Как ни странно, но, вспоминая об этом поцелуе, Киппс не испытывал ни малейшего удовлетворения от своей, как он полагал, измены. Конечно, это разврат, да, да, разврат, достойный Читтерлоу, — заигрывать с «девчонкой» в Литтлстоуне, сидеть с нею на берегу, даже добиться от нее поцелуя, когда помолвлен с другой «девчонкой» в Фолкстоне; но почему-то для Киппса они были не «девчонки», они были для него Энн и Элен. К Элен в особенности не шло понятие «девчонка». И в тихом дружелюбном взгляде Энн, в ее бесхитростной улыбке, в том, как наивно, не таясь, она сжимала его руку, была какая-то беззащитность и доброта, которая сообщила этому приключению совсем неожиданную прелесть. Это она мне раскрыла глаза… Строчка эта кружилась у него в голове и не давала думать ни о чем другом, но на самом деле он узнал только самого себя.
Непременно надо еще раз повидать Энн и объяснить ей… Но что ж тут объяснишь? Этого он и сам толком не знал.
Ничего он теперь толком не знал. Осмыслить всю свою жизнь, все душевные движения и поступки как нечто единое и закономерное, когда одно неизбежно вытекает из другого, — это может далеко не всякий, это — высшее, на что способен человеческий разум, а Киппс просто жил, как живется, бездумно и безотчетно — как трава растет. Его жизнь была просто сменой настроений: то найдет стих, то сойдет, то вновь нахлынет.
Когда он думал об Элен, или об Энн, или о ком-либо из своих друзей, он видел их то в одном, то в другом свете, не понимая, какие они на самом деле, не замечая, что его представления о людях нелогичны и противоречивы. Он любил Элен, боготворил ее. И вместе с тем уже начинал ее люто ненавидеть. Когда он вспоминал поездку к Димпнскому замку, его охватывали глубокие, смутные и прекрасные чувства; но стоило ему подумать о неизбежных визитах, которые придется проделать вместе с нею, или о ее последнем замечании по поводу его манер, — и в душе закипал гнев и на язык просились разные колкости, облеченные в отнюдь не изысканную форму. Но об Энн, которую он видел так недолго, вспоминать было гораздо проще. Она такая милая, такая на удивление женственная; о ней можно думать так, как никогда не подумаешь об Элен. Быть может, всего милее в Энн, что она так его уважает, каждый ее взгляд — словно бальзам для его самолюбия, которое ранят все, кому не лень.
Направление его мыслей определили случайные подсказки и намеки приятелей, немалую роль тут сыграло и то, что он был здоров, молод и жил теперь в довольстве и достатке, не зная нужды. И все же одно ему было ясно: ездить вторично в Нью-Ромней нарочно, чтобы повидаться с Энн, дать ей понять, будто все это время он думал только о ней, а главное, поцеловать ее, было дурно и подло с его стороны. Но, к сожалению, он понял это на несколько часов позже, чем следовало.
На пятый день после поездки в Нью-Ромней Киппс поднялся позднее обычного; во время бритья он порезал подбородок, когда умывался, зашвырнул шлепанец в таз и в сердцах выругался.
Вам, дорогой читатель, наверно, знакомы эти невыносимые утра, когда, кажется, нет ни сил, ни охоты встать с постели, и нервы напряжены, и все валится из рук, и весь белый свет ненавистен. В такое утро кажется, что ни на что не годен. Обычно такое утро наступает после бессонной ночи и означает, что вы не выспались, так как с вечера слишком плотно поужинали, а может быть, ваше душевное равновесие нарушилось оттого, что вы, по выражению Киппса-старшего, хлебнули шипучего сверх меры, а может быть, вас одолела какая-то тревога. И хотя накануне вечером у Киппса опять побывал в гостях Читтерлоу, больше всего на сей раз виновата была тревога. В последние дни заботы обступали его со всех сторон, а накануне вечером эти враги мидийские просто одолели его, и в хмурые предрассветные часы Киппс делал им смотр.
Главная неприятность надвигалась на него вот под каким флагом:
«Мистеру Киппсу.
Миссис Биндон Боттинг будет рада видеть Вас у себя в четверг, 16 сентября.
От 4 до 6:30 имеют быть анаграммы R.S.V.P.[9]»
Это вражеское знамя во образе пригласительного билета было засунуто за зеркало в гостиной. И из-за сего чрезвычайной важности документа они с Элен серьезно поговорили, а, точнее сказать, по мнению Киппса, поругались.
Давно уже стало ясно, что Киппс вовсе и не жаждет пользоваться теми возможностями привыкать к обществу, какие ему предоставлялись, и уж, конечно, не ищет новых возможностей — из-за этого они с Элен были постоянно недовольны друг другом и между ними назревал разлад. Киппса явно приводило в ужас это общепринятое развлечение — послеобеденные визиты, — и Элен недвусмысленно дала ему понять, что его страх — просто глупость и его надо побороть. Впервые Киппс проявил столь недостойную мужчины слабость в гостях у Филина накануне того дня, когда он поцеловал Энн. Они все сидели в гостиной и мило болтали, и вдруг вошла маленькая служанка в огромной наколке и возвестила о приходе мисс Уэйс-младшей.
На лице Киппса изобразилось отчаяние, он привстал со стула и пробормотал:
— Вот напасть! Можно, я пойду наверх?
И тут же снова опустился на стул, так как было уже поздно. Вполне вероятно даже, что, входя, мисс Уэйс-младшая слышала его слова.
Элен промолчала, хотя и не скрыла своего удивления, а потом сказала Киппсу, что он должен привыкать к обществу. Ей с матерью предстоит целый ряд визитов, так вот пусть он их сопровождает, Киппс нехотя согласился, но потом с неожиданной для Элен изобретательностью всячески от этого уклонялся. Наконец ей удалось заполучить его для визита к мисс Панчефер — визита весьма несложного: мисс Панчефер была глуха и при ней можно было говорить что вздумается; однако у самых дверей дома подле Рэднор-парка Киппс снова увильнул.
— Я не могу войти, — сказал он упавшим голосом.
— Вы должны. — Прекрасное лицо Элен стало суровым и непреклонным.
— Не могу.
Киппс торопливо вытащил носовой платок, прижал его к лицу и глядел на Элен поверх платка круглыми враждебными глазами.
— У меня… э-э… у меня кровь из носу, — хриплым чужим голосом пробормотал он сквозь платок.
Тем и кончилась его попытка взбунтоваться, и когда настал день чая с анаграммами, Элен безжалостно отмела все его протесты. Она настаивала.
— Я намерена как следует вас пробрать, — честно сказала она. И пробрала…
Филин, как мог, растолковал Киппсу, что такое анаграммы и каковы правила игры. Анаграмма, объяснял Филин, — это слово, состоящее из тех же букв, что и какое-нибудь другое слово, только порядок букв другой. Ну, вот, например, анаграмма к слову в-и-н-о — в-о-и-н.
— Воин, — старательно повторил Киппс.
— Или о-в-и-н, — сказал Филин.
— Или о-в-и-н, — повторил Киппс, при каждой букве помогая себе кивком своей бедной головушки. Он изо всех сил пытался постичь эту мудрость.
Когда Киппс усвоил, что такое анаграмма. Филин стал объяснять, что значит чай с анаграммами. Киппс наконец усвоил: собирается человек тридцать, а то и шестьдесят, и у каждого к платью пристегнута анаграмма.
— Вам дают карточку, ну, вроде той, куда на танцевальных вечерах записывают танцы, и вы ходите, смотрите и записываете на нее все свои догадки, — говорит Филин. — Это очень забавно.
— Еще как забавно! — с притворным увлечением отозвался Киппс.
— Такое поднимается непринужденное веселье, — сказал Филин.
Киппс улыбнулся и понимающе кивнул…
Среди ночи все его страхи воплотились в грозное видение чая с анаграммами; этот чай царил над всеми его неприятностями: тридцать, а то и шестьдесят человек, по преимуществу дамы и кавалеры, и великое множество букв, в особенности в-и-н-о и о-в-и-н, появлялись, и исчезали, и маршировали взад и вперед, и Киппс тщетно пытался составить хоть одно какое-нибудь слово из этой нескончаемой процессии…