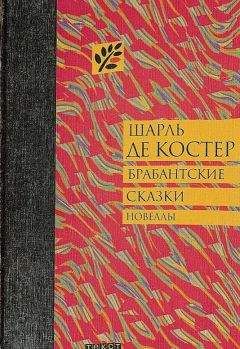А возле нее разлеглась здоровенная собачища и все рычала – у меня, конечно, душа в пятки, и я скорей наутек. Перемахнул через межу, сел отдышаться – дай, думаю, подкреплюсь твоей ветчиной. Вдруг слышу за спиной шорох; оборачиваюсь, смотрю – бежит ко мне собака старой девы, но уже не рычит, а ласково, заискивающе виляет хвостом: ей тоже ветчинки захотелось. Только стал было я ее подкармливать, ан, глядь, бежит хозяйка и вопит: «Куси его, собачка, куси!» Я – бежать, но на моих штанах повисла собачища и вырвала клок вместе с моим собственным мясом. Я невзвидел света от боли, обернулся – хвать собаку палкой по передним лапам; одну-то уж наверняка перебил! Собака с ног долой и как закричит на своем собачьем языке: дескать, пощади! – ну, я ее и пощадил. А хозяйка за неимением камней давай пулять в меня комьями – я опять припустился.
Какая же она злая, какая же она вздорная баба! Чем я, несчастный, виноват, что она из-за своей неказистости никак не может найти себе жениха?
Пригорюнился я и пошел в тот самый kaberdoesje, который ты мне указал: думаю, bruinbier рассеет мою кручину. Не тут-то было: вхожу – и что же я вижу? Мужчина с женщиной дерутся. Я спросил, не соблаговолят ли они заключить перемирие для того, чтобы отпустить мне кувшинчик bruinbier’а вместимостью в одну, а то и в целых шесть пинт. Баба, настоящая stockvisch[126] , взъерепенилась. «Брысь отсюда! – кричит. – Вот этим самым башмаком я мужа по голове бью – гляди, как бы и тебе не попало». Вот я, потный, усталый, сюда и прибежал. Нет ли у тебя чего-нибудь поесть?
– Найдется, – отвечал Уленшпигель.
– Слава Богу! – сказал Ламме.
Итак, все в сборе – можно ехать дальше. Осел сдвигает с места повозку, и от напряжения ушки у него на макушке.
– Ламме! – говорит Уленшпигель. – Нас четверо попутчиков: во-первых, ослик, кроткая скотинка, кормится чем Бог пошлет; во-вторых, ты, добродушный толстяк, – от тебя ушла жена, и ты ее ищешь; в-третьих, милая девушка с нежной душой – она нашла себе юношу по сердцу, но он ее не стоит, – это я: итого, стало быть, четверо... А ну, ребята, гляди веселей! Листья желтеют, скоро-скоро в небесах загорятся яркие звезды, солнышко скроют осенние тучи, придет прообраз смерти – зима, расстелет снежный саван над теми, кто лежит в сырой земле, а я все буду искать: куда делось счастье отчего края? Бедные покойники: ты, Сооткин, умершая от горя, ты, Клаас, сожженный на костре! Ты, могучий дуб, олицетворение незлобивости, ты, нежный плющ, олицетворение любви, я – ваш отпрыск, я тяжко скорблю, ваш милый прах бьется о мою грудь, и я за вас отомщу.
– Не надо оплакивать тех, кто умер за правду, – говорит Ламме.
Но Уленшпигель задумался.
– Настал час разлуки, Неле, – неожиданно обращается он к девушке. – Мы с тобой расстаемся надолго. Может быть, я никогда больше не увижу милое твое лицо.
Неле смотрит на него лучистыми, как звезды, глазами.
– Давай слезем с повозки и уйдем в лес! – говорит она. – Ты у меня с голоду не умрешь: я умею находить съедобные растения и приманивать птиц.
– Девушка! – вмешивается в разговор Ламме. – Ты Уленшпигеля не удерживай: он должен найти Семерых и помочь мне сыскать жену.
– Побудь со мной! – просит Неле, плача и улыбаясь сквозь слезы другу своему Уленшпигелю.
А Уленшпигель, видя ее слезы, обращается к Ламме:
– Как скоро тебе станет скучно без неурядиц, тут-то ты и найдешь жену.
– Ты что же это, Тиль, ради девчонки бросаешь меня одного? – говорит Ламме. – Молчишь? Запала дума о лесе? Но ведь в лесу нет ни Семерых, ни моей жены. Поищем-ка ее лучше на мостовой, благо по мостовой повозка так сама и катится.
– Ламме! – говорит Уленшпигель. – У тебя в повозке полная котомка еды, стало быть, ты и без меня за милую душу доедешь до Коолькерке, а там я тебя нагоню. Тебе даже лучше побыть в одиночестве – так ты скорей найдешь прямой путь к жене. Слушай и запоминай. Проедешь три мили – тут тебе будет Коолькерке, что значит «Холодная церковь»: называется она так потому, что ее со всех сторон овевает ветер, как, впрочем, и многие другие церкви. На колокольне увидишь флюгер в виде петуха – он вертится во все стороны на ржавых петлях. Скрип петель указывает горемыкам, потерявшим своих подружек, где их искать. Но только прежде должно семь раз ударить ореховым прутом по каждой из стен колокольни. Заскрипят петли под северным ветром – ступай на север, но только осторожно, ибо северный ветер – это ветер войны; под южным – лети на юг как на крыльях, ибо то ветер любви; под восточным – мчись крупной рысью: то ветер света и радости; под западным – иди не спеша: то ветер дождя и слез. Поезжай, Ламме, поезжай в Коолькерке и жди меня!
– Ин ладно, – говорит Ламме и уезжает.
Тем временем теплый, но сильный ветер гнал по небу, точно неких чудовищ, стаю серых осенних туч. Деревья шумели, как волны бурного моря. Уленшпигель и Неле давно уже бродили вдвоем по лесу. Уленшпигель проголодался; Неле искала сладких кореньев, но вместо кореньев находила одни только желуди да поцелуи милого.
Уленшпигель расставил силки и в чаянии жаркого посвистывал, приманивая птиц. Возле Неле на ветку сел соловей, но она его не тронула: пусть, мол, поет! Прилетела малиновка – Неле и ее пожалела: уж очень смешно она важничала! Потом прилетел жаворонок, но Неле ему внушила, что куда лучше воспарить ввысь и в песне прославить природу, чем попасть на смертоносное острие вертела, – это, мол, худые шутки!
И она говорила правду, ибо Уленшпигель уже развел костер, заострил палку в виде вертела, и самодельный этот вертел поджидал жертв. Птицы, однако, не прилетали – одни лишь вороны зловеще каркали где-то высоко над головой. И Уленшпигель остался голодный.
А Неле пора было возвращаться к Катлине. И она, заливаясь слезами, пошла домой, а Уленшпигель смотрел ей вслед. Но она все же вернулась и бросилась к нему на шею.
– Сейчас уйду, – сказала она.
Прошла несколько шагов, опять вернулась и опять сказала:
– Сейчас уйду.
И так раз двадцать, если не больше.
Наконец она все-таки ушла, и Уленшпигель, оставшись один, кинулся догонять Ламме.
Приблизившись к колокольне, он увидел, что Ламме сидит у ее подножия и с мрачным видом грызет ореховый прутик, а между ног у него стоит большой кувшин с brиinbier’ом.
– Уленшпигель! – сказал Ламме. – Сдается мне, что ты услал меня сюда только для того, чтобы побыть вдвоем с девушкой. Я по твоему совету семь раз бил прутом по каждой стене, ветер дул неистово, и хоть бы одна петля скрипнула!
– Наверно, их маслом смазали, – высказал предположение Уленшпигель.
И поехали они в герцогство Брабантское.
Король Филипп в дурном расположении духа по целым дням, а иногда и ночам, марал бумагу и царапал пергамент[127] . Бумаге и пергаменту вверял он думы твердокаменного своего сердца. Никого не любя на всем свете, зная, что и его никто не любит, ни с кем не желая делить бремя своей неограниченной власти, этот страждущий Атлант сгибался под ее тяжестью. Непосильные заботы изнуряли слабое тело этого флегматика и меланхолика по натуре. Он не переваривал веселых лиц, и наш край он возненавидел именно за его жизнерадостность; возненавидел наших купцов за роскошество и богатство; возненавидел наших дворян за вольные речи, за независимый нрав, за пылкость их полнокровного и отважного жизнелюбия. Ему было известно, что еще задолго до того, как кардинал де Куза[128] в 1380 году обличил беззакония, творимые церковью, и указал на необходимость реформ, возмущение папой и римскою церковью проявлялось у нас в образовании различных сект и бурлило в людских умах, будто вода в закрытом котле.
Упрямый, как мул, король Филипп был убежден, что воля его, подобно воле Божьей, должна тяготеть над всем миром. Он мечтал о том, чтобы наши края, отвыкшие от покорности, снова впряглись в старое ярмо, так и не добившись никаких реформ. Он хотел видеть свою святую мать – римско-католическую апостольскую церковь единой, нераздельной, вселенской, без всяких новшеств и преобразований, причем никаких разумных доводов в защиту своего хотения он привести бы не мог, за исключением довода взбалмошной бабы, что он, мол, так хочет, и даже ночью не давали ему покоя все те же неотвязные думы, и он метался по постели, точно под ним было терновое ложе, метался и бормотал:
– Обещаю тебе, святой апостол Филипп, обещаю тебе, Господь мой и Бог: пусть я превращу Нидерланды в братскую могилу и брошу туда всех жителей, но они вернутся к тебе, блаженный мой покровитель, к тебе, Пречистая Дева, к вам, святые угодники!
И, осуществляя задуманное, он старался быть более римским, нежели сам папа, и более католическим, нежели вселенские соборы.[129]
И Уленшпигель, Ламме и весь нидерландский народ, содрогаясь от ужаса, представляли себе этого венценосного длиннолапого паука, с открытым ротовым отверстием ткущего паутину в мрачном Эскориале[130] , чтобы запутать их и высосать самую чистую их кровь.