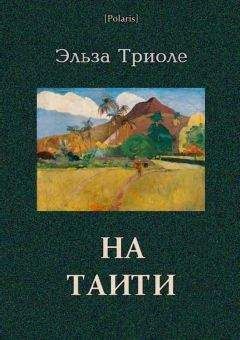– Я врач, но признаюсь, я лично не верю в нее, в науку. Я хочу сказать, что наука движется вперед только благодаря художникам. Ученые пасуют перед мыслью об абсурдности и научной ереси, а художника ничто не останавливает, он не скован наукой… Поэтому-то он и проникает в закрытые для науки двери; он свободен, ничто не стесняет его интуиции…
– Интуиция! – Лебрен так и подскочил. – Вы совершенно нравы, Вакье. Все начинается с гениальной интуиции, а потом уже приходит черед доказательствам.
– Наконец-то мы с вами согласны! На мой взгляд, научная интуиция предполагает дар наблюдательности так же, как и творчество художника. По радио я слышал историю маленького Гаусса, гениального математика, родившегося в конце XVIII века. Как-то в школе учитель, чтобы утихомирить детвору, задал им задачу: сложить все числа от одного до ста… И что же, Гаусс через три минуты уже отдал ему тетрадь с правильным решением! Он заметил, что при сложении первой и последней цифры, второй и предпоследней всегда получается 101: 100 + 1 = 101,99 + 2 = 101 и т. д. Таким образом, общая сумма составила 101, умноженное на 50. Заметил с первого взгляда: дар наблюдательности… Вот что такое интуиция.
Тут все сцепились: учитель презирал интуицию, единственное, что он ценит, это коллективный труд… з наше время научный прогресс находится в руках коллективов… Ну ясно, это бесспорно, да и не может быть иначе! Но все-таки первый толчок, огонь, воспламеняющий порох, искра, падающая в бензин, все-таки исходят от индивидуального синтеза, от интуиции! Все начинается с гениальной интуиции! Какое-нибудь научное открытие может быть конечным результатом тысячи и тысячи опытов, но оно может опередить опыты, которым останется лишь подтвердить обоснованность открытия.
– Так или иначе, – сказал Рене Луазель, стараясь утихомирить спорщиков, – прогресс в наши дни заключается в претворении науки в практику. Исследователи находят, гипотеза подтверждается… и вот вам, уже строится завод!
– В этом вы, мой друг, как я вижу, оптимист, – заметил Луиджи. – С тех пор, как математика оперирует бесконечно большими величинами, весь строй науки изменился – это весьма утешительно. Все можно измерить, и все можно выразить. Бесспорно, весь мир будет переосмыслен. Кибернетика уже позволяет нам предвидеть…
И разговор зашел о современных чудесах… Потом учитель долго объяснял присутствовавшим опыт введения новых учебников, заменяющих педагогов. Учебники эти задают ученику известное количество вопросов, предвидят все неправильные ответы и отсылают его на страницу, где имеется правильный ответ. В конечном счете это своего рода кибернетическая машина.
Кристо никогда не говорили, что нужно молчать, когда беседуют взрослые. Напротив, все всегда его охотно слушали.
– Вечно одно и то же! – заявил он, сердито махнув рукой. – В конце концов упрутся в астрономические цифры. Вот вы говорите, все неправильные ответы… Невозможно, чтобы все, все… это все только у нас в голове существует. Количество комбинаций слишком велико, чтобы дать все. Если мы хотим воспроизвести человека, его мозг, сокращение мышц, машина получится такая громоздкая, что практически ее сделать нельзя. Все искусственное гораздо, в тысячу раз грубее, чем природа… А уж если к этому прибавить внутренние субъективные знания… Вот к чему я вел…
Кристо стоял среди взрослых, заглядывал в глаза то одному, то другому. Со стороны могло показаться, что они все вместе играют в какую-то игру.
– Это из-за протеза Луиджи, – продолжал он, – вы знаете, что, если руку отрезать, человек чувствует ее, словно она еще есть… Я вот думаю о тяжести отрезанной руки… Когда безрукий делает гимнастику, мускулы культи и целой руки симметрично развиваются. Плечо над отсутствующей рукой находится на нормальном уровне, человек держится прямо; я хочу сказать, что оба плеча несут одинаковую нагрузку и что плечо культи нормально оттянуто рукой-фантомом совсем так, как плечо неповрежденной руки. У человека одинаковая тяжесть и слева и справа, но если взвесить человека с обеими руками и человека с отрезанной рукой, то в весе будет разница – за счет ампутированной руки. Так почему же мускулы культи и целой руки развиваются одинаково? Значит, надо, чтобы вес был заменен каким-то эквивалентом. Вес существует, но в иной форме, которая весами не улавливается. В какой же форме? В виде энергии? Мне почему-то кажется, что схема человеческого тела, которую мы познаем, воспринимаем только изнутри, субъективно, становится ощутимой там, где кончается культя, что именно здесь можно поймать душу за хвост. Как по-вашему?
– По-моему, романтизм тю-тю! – заметил скульптор.
– А что такое романтизм? – Кристо моргнул, судорожно сжал веки, потом еще, еще, чуть ли не десять раз подряд, скверная привычка решительно становилась болезненным тиком.
Каждый попытался определить романтизм… Как бы тебе сказать… Может, преобладание мечты над разумом? А по-вашему как? При своем зарождении романтизм рвал с закостенелыми формами искусства, разрушал классические каноны… свободно отдавался течению. Если бы мы слушались рассудка, мы непременно должны были бы признать правоту мечты. Правота – на стороне мечтателей, романтиков, а не жесткого каркаса законов науки и человека…
По сравнению с зыбучими песками всяческих фантомов романтизм казался вполне твердой почвой… Однако сами фантомы в один прекрасный день станут реальностью, материализуются, не став от этого менее романтичными… Ну, если в вашем представлении это и есть романтизм!… Неужели лунный романтизм отомрет только потому, что человек полетит на Луну?… Не смешивайте романтизм с фантастикой! Поле наших мечтаний расширилось, у нас новые темы. А разве математические формулы не будят в вас мечты? Нет на свете ничего более зажигательного! А Бах? Разве Бах не есть математическая гармония?… Спорящие, казалось, совсем забыли о Кристо, хотели о нем забыть. Фантом грозно потрясал своими цепями, он был страшен, как незнакомец, подстерегающий вас за дверью, и видно было даже, как шевелится щеколда.
Сияние на лице Марселя погасло. Он хмуро слушал споры, и, когда собеседники погрязли в пучинах романтизма, он вполголоса заметил Кристо:
– Все твои рассуждения никуда не годятся… Никогда человек с ампутированной ногой или рукой не бывает симметричным.
– Нет, бывает, – возразил Кристо, – я сам читал.
– Значит, вздор читал. Это врачи нарочно обманывают больных, чтобы они делали лечебную гимнастику. Им выгодно.
– Я же тебе всерьез говорю.
– Нет, или уж тогда нужно, чтобы калека занимался лечебной гимнастикой пятнадцать часов в сутки. Да еще к плечу ему тяжесть следует привесить. Слышишь, тяжесть!
Что тут возразишь!… Кристо подумал, вот и это еще я должен проверить сам, почему я обязан верить одному, а не другому. Впрочем, если даже то, что написано в книгах, неправда, Кристо отнюдь не намеревался расставаться с душой, которую поместил на самом кончике культи.
– С тобой вечно так, – сказал он Марселю, – все тысячу раз приходится начинать сначала. Как картину. Разве ты не хочешь вместе со мной поймать живую душу?
– Хочу. Я не знал, что мы с тобой заодно стараемся, а хотеть хочу.
А те все еще спорили… Схема человеческого тела, бросьте, бросьте, субъективное, как известно, не передается другому, п, если любимая женщина рожает, ты не можешь очутиться в ее шкуре, никогда не испытаешь то, что она испытывает. Кристо забыл о Марселе… Как? Как? Что они такое говорят? А стигматы, – негодующе изрек он, – а как же стигматы? Когда кого-нибудь любишь, то вполне можешь испытывать те же страдания, иметь те же самые раны. Кристо, ты, очевидно, не совсем понимаешь, что такое стигматы. Если у святого Франциска Ассизского были раны, как у Иисуса Христа, это значит, что бог пожелал его восславить, а не потому они были, что Франциск прошел через те же самые муки, что Христос. Никто никогда и не говорил, что святой испытал те же страдания, он только был отмечен ими… Возможно, это так в отношении святого Франциска Ассизского, но лично он, Кристо, уверен, что если бы он сильно кого-нибудь любил, у него непременно появились бы стигматы и он от них тоже страдал бы… Когда мама ждала санитарную машину, чтобы ехать рожать Малыша, она ужасно страдала, и одна их соседка, которая очень любит маму, села перед дверью на ступеньки лестницы – и как же она корчилась, как стонала, потому что у нее тоже болел живот. Папа тогда еще сказал: «Вот у нее уже до стигмат дошло!» Не будем говорить о патологических случаях, вмешался доктор Вакье, но искусство, особенно поэзия, может творить чудеса, передавать субъективное чувство. Но Лебрен настаивал именно на патологических случаях: они настолько усиливают определенные элементы, что мы начинаем улавливать вещи, неуловимые у людей, здоровых телом и духом.