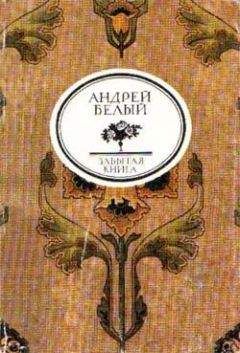– Я из окрестности, – вздыхает томно старик. «Где я его уже видел в далеком прошлом?» -
думает Петр; странное какое-то сходство с чем-то любимым, знакомым, но и давно отошедшим в этих старых чертах – но с чем, с кем? Смотрит – все на старом с иголочки; думает: «западник! вот оно что!» А старик в образе и подобии запада бережно развертывает плед, укладывает его в траву и садится с Дарьяльским; луна уже их освещает тихо, и Дарьяльскому думается, что пора бы к Матрене в условленное местечко, но его к себе бритый барин приворожил; голос бритого барина такой же плаксивый, как птицы болотной крик; напоминает крик тот по осени нам милое прошлое и, зачарованные, подолгу мы простаиваем вечерами у гнилых, болотных окон, все испуганно слушаем голос родной заплакавшей птицы.
«Все прошло, все прошло» – лепечет вода, а мы улыбаемся, мы не верим: «Ничего не прошло», мы спорим; но мы не скажем никогда, что такое прошло, и отчего… но чу – как раз вдали голос заплакавшей птицы…
– Молодой человек: вы – чудак?
– ???
– Потому что вы – русский: все русские – чудаки…
– Где-то я все это уже слышал? – отзывается Петр (чу – снова голос вдали болотной чтицы).
– Вы это слышали в себе самом, – изумляется Петр: ему почудилось, что те слова он лишь подумал, а не сказал.
– Нет, погодите: постойте: где я вас видел? им мне напоминаете…
– Ну, вот какая фантазия: все мы друг другу напоминаем и все встречаемся.
– Вы, собственно говоря, о чем?
– Да, я, собственно говоря, ни о чем ровно… – сливается плачем успокоенный барин, поглаживая коленку.
– Какой вы нервный: вы, батюшка мой, чудак; смотрите, как бы вам не пришлось поплатиться за нервность…
– А вы почем знаете?
– Вы – молодой человек: а молодые люди все – вырождаются; это печально – но это так: русские люди вырождаются; европейцы вырождаются тоже; плодятся одни монголы да негры.
– России предстоит будущее, – возражает Петр, а сам вглядывается в бритого барина: ничего себе – барин спокойный, тихий; верно он – западник. «Где это его видал?» – думает Петр, а сам говорит: – Россия таит несказанную тайну.
Но Павел Павлович (это был он), попав на любимую тему, уже принимается холодно ее вышивать на словах Петра.
– Россия – монгольская страна; у нас всех – монгольская кровь, не ей удержать нашествие: нам всем предстоит пасть ниц перед богдыханом [84].
– Россия… – возражает Петр.
– Россия – несчастная страна; вот вы говорите о несказанном; стало быть, у вас в душе есть что-то такое, что вы не можете высказать: вы, молодой человек, не только чудак, но вы вдобавок еще и косноязычный чудак; вы – несчастный немой молодой человек, как и все теперь молодые люди немы; они говорят о чреватом молчании, потому что не умеют членораздельно выражаться. Когда говорят о несказанном, это опасный симптом; это доказывает лишь то, что человечество впадает в скотоподобное состояние; к сожалению, все теперь скотоподобны, не одни русские! – вздыхает грустно Павел Павлович барон и громко сморкается.
Чу! Снова далекий, болотный, родимый голос: «Все прошло, все прошло!» – и Дарьяльский, как будто борясь, восклицает:
– Нет, нет – неправда, неправда!
– К сожалению, правда: вот вы, молодой человек, по-видимому, принадлежите к интеллигенции, а посмотришь на вас – мужик мужиком: это потому, что подлинная культура вам не под силу; оттого-то вы и чудачите; вы себя заставляете видеть сны: проснитесь…
Снова Дарьяльский прислушивается к вещим словам: разве все, что с ним – не чудесный сон, снящийся наяву? С удивлением смотрит на бритого старика, а уж бритый старик, поднявшись с земли, бережно складывает свой плед и вежливо подает ему свою руку, не снимая перчаток:
– До свиданья: мне далеко возвращаться…
уже он вот от Петра далеко, – далеко запад: где я видел его?» – продолжает думать Дарьяльский; предосенний холодный ветерок трогает деревцо: падает в тень желтый лист; струйка воды возлепетала у его ног:
«Все-все-все расскажу, все-все-все, все-все-все».
– Я и сам знаю! – усмехается Дарьяльский и вдруг ловит себя: «Что, что, что – что я знаю?»
Но пора: Матрена его, небось, давно заждал ась.
«Одно мгновенье не спал, – на один миг проснулся, – думает Петр, – вот уже иду в сон».
Но по мере того, как подходит он к дубу, ему начинает казаться, что он вновь засыпает; потом ему кажется, что и не было ничего из того, что было: бритый старик, странные его речи, все это сон, давно отошедший на запад; его проглотила страшная опять явь: это – Россия.
Струйка осенней воды лепечет у его ног: «Все-все-все расскажу, все-все-все, все-все-все»…
– Я и сам знаю! – усмехается Дарьяльский.
– Сядь-ка сюда, Матрена… Славная у меня ты бабёха: сядь-ка сюда, Матрена… Небось, скучно – ефта со мной, со стариком – вот тоже…
Дико блещет очами столяр; к окну его колченогие ноги несут, он руками цепляется за Матрену и тащит ее за собой к окну:
– Сядь-ка сюда, Матрена…
– Ох, чтой-то! – дико блещет она очами; ее слабовольные ноги к окну понесли; как за руки, как за ее столяр уцепился, так и гладит, и шепчет, и тащит ее за собой.
– Подь сюда, подь! – рядом усаживает. – Славная у меня ты бабёха, глазастая, крупная: вот только воспенным пятном маленько попорчена; ну да, небось, полюбовничек-то не взыщет… Ждет, поди, полюбовничек…
– Пфф… Пфф… – стыдливо пофыркивает
Матрена.
– Ждет?
– Ждет…
– Ничего… Ждет-пождет: слаще ему же будет
потом.
– Ох, не могу! – прячет лицо от сожителя старого, а старый сожитель уже ее усадил на лавку: – славная, славная – ничего себе…
– Охохох! – вздыхает Матрена…
– Дай-ка мне ручку свою, Матрена: не хошь? Ну, значит, не надо, я ведь так только – ни для чего другого… Да ты слухай слова-то мои… Ничаво иетта я не против… Только вот оно что: слишком вы, други, частенько милуетесь: кажный день, кажный день иеттат у вас случай праисходит. И все без молитв, без воздыханий – вот тоже. А для ча? Нешта не знаешь, в каку таку тайну иеттат случай обернется: как забеременеешь; помни, каку понесешь тяжесть духовну людям на сладость.
– Да у нас, Митрий Мироныч, не проста иетат случай, – конфузится баба, – мы воздыхаем о духе: милуемся на поля, на цветики, на всякое благовоние, песни поем…
– Дай-ка мне, любая, руку на хрудь к тебе положить, – умиляется столяр, дико блистая уже в нем загоревшимся пламенем. – Мягкая у тебя хрудь, Матрена!…
– Ох, оставь, ох не трошь ты меня!…
Но чудная ее уже в немоту заключила мощь; из руки столяра ей грудь рассек ток; тонкими струйками растекается вкруг нее, наливается в нее его ток от пальцев потных, пальцев цепких: усмирилась, безвольно повисла иссиня-бледным лицом, розовеющим медленно наливаемым током, что румяная осенняя боровинка.
– Тепло ли тебе, тепло ли тебе, тепло ли тебе?…
– Тепло мне: еще теплей – все жарче… ух, грудь сожгло: вся горю…
– Молитесь, молитесь: воздыхайте, не о себе, о дите; кажный тот вечер, как в полях вы прогуливаетесь, али в лесу, в дупле, на сеновале друг с дружкой милуетесь – кто да кто слезно молится о духовном зачатии души? Столяр Кудеяров… Вот тоже… Не на срамное, плотское соитие вас талкаю – сам бы я без того не прочь – на зачатие светлого духа… Славная у меня баба – сам бы я… Молитесь, молитесь же, воздыхайте… Дай-ка, любая, мне еще на хрудь руку свою возложить.
Силой палящей и блеском и треском попаляет ее рука столяра: изнасилованная его мыслью, она не противится; спал платок с головы, руки укрыли лицо, плачет Матрена Семеновна, разливается слезами умиленно; и хорошо-то ей, и страшно – будто в бане: спать хочется.
А столяр? Его лик будто спал с него, как кожура линяющего таракана; грозный, грозный, легко истонченный его лик, с очками, павшими на кончик носа, глянул по-новому из-под той сквозной, пустой кожуры: дик и грозен лик столяра; дико и грозно в избе; странно натягивается здесь воздух между предметами, как силы духовной некая ткань; и ткань светится, потрескивает: искры по комнате, трески сухие, бегут огоньки будто паук, светлую выпрядающий из себя паутину. Руки вверх бросает столяр, бормоча накликания и слова: и снова прижимает руки к груди; вверх – вниз, вверх – вниз руки летают; будто от хворой его груди к цепким пальцам пристают света кудельные волоса: благоуханные, богоданные; благоуханные, богоданные волоса вырывает он из груди. На Матрены Семеновны грудь, на плечо, на живот, – падает, падает, падает перст столяра, быстро-быстро ее его заволакивают паутиной руки; сонно тонет она, сонно тонет она, сонно тонет она в едва глазу заметной света пучине, вырванной из груди столяра и намотанной на нее, а над всем этим – глаза столяра, как зеленые злые отверстья, ведрами льют на нее свет. Так сидят они у окна; луч вечерний, последний скромно протягивается в окошко и, свирепея, багровым бежит косяком на столе, не разберешь, что тут солнечный свет, и что тут свет столяровский – столяровская паутина молитв, затканных солнцем и тьмой в один воздушный ковер; странный невидимый вид: душа столяра вытекает наружу паутинными нитями, светами, пламенами; вокруг рук его, вокруг его головы теперь – багрово-золотой круг: сонно все то увидала Матрена; глупая, сонно она уже на коленях пред ним; руки целует и – ах! – молится. То уже не сожитель, Митрий Мироныч; то праведник, то великий пророк, из себя выкинувший пламя; знает Матрена, что коль есть случай, пламенем этим Митрий Мироныч поджигает солому: руки сложит, пальцами изобразит острие и к тем копией заостренным пальцам страшная притечет сила, скопится, засверкает белым калильным огнем: видела однажды она, как в глухую ночь из окна из заряженного силой столяровского пальца молния исходила и тукнул гром.