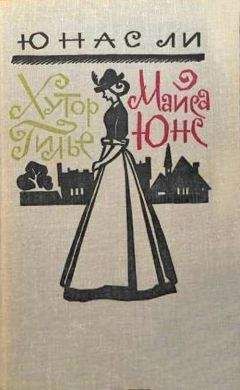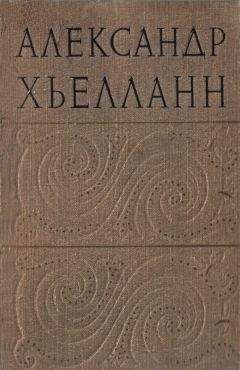…Два полных дня здесь, завтра и послезавтра у Брандтов — вот и заработан далер. Еще один день она задолжала Симунсенам — к ним она снова пойдет в четверг, чтобы отработать ровно неделю. Хорошо бы поскорее разделаться с ними и на оставшиеся до сочельника четыре с половиной дня пойти к Антунисенам… Надо ведь заплатить мадам Дёрум за квартиру и отдать долг за ботинки.
Останется и к рождеству.
Надо припасти немного денег на крестины у маляра Йёрстада — они назначены на воскресенье между рождеством и Новым годом. Майса задумала сшить хорошенький чепчик с красными атласными рюшками и лентами. Из всех, кто живет в их дворе, в крестные матери пригласили именно ее, а мадам Дёрум будет держать ребенка над купелью. А потом, говорят, устроят настоящий пир… В церковь Майса наденет новую зимнюю шляпку и жакет с боа. Свое черное платье украсит красивым шерстяным кружевом, которое подарила ей фру Скэу, а к пятому дню после рождества, когда ей снова придется идти шить, она его отпорет. Белый воротничок заколет золотой булавкой и пришьет к платью красивые манжеты… Можно еще накинуть сверху красную шаль с бахромой, хотя, пожалуй, без нее будет скромнее и наряднее. Волосы она завьет и устроит шиньон, — уж она постарается выглядеть на славу! Говорят, они пригласят Эллинга и других подмастерьев, так что вечером удастся немного потанцевать…
Людвиг зевал во весь рот, в конце концов и она от него заразилась…
— В Черное море впадают Днепр и Днестр, Днепр и Днестр, Днепр и… — Он бубнил и бубнил, не переставая: — Днепр и… и…
— Смотри, челюсть вывихнешь, — вмешалась Майса.
Людвиг метнул на нее сердитый взгляд:
— В Белое море — Северная Двина, в Балтийское — Западная Двина, Западная… В Балтийское — Дви… Дви….
— А не дви-нуться ли тебе спать?
— Да замолчите вы, вовсе я не хочу спать! — В сердцах он захлопнул книжку и пошел наверх.
В комнате стало пусто и тихо, язычок пламени в лампе сделался красноватым, она начала светить слабее.
Видно, на дворе разыгралась настоящая метель, вон ветер так и завывает. Майса шила без передышки, времени у нее оставалось меньше часу.
По вечерам на нее иной раз вдруг находили приступы сонливости, в глазах все точно двоилось. Но шитье шло своим чередом, и когда она стряхивала с себя сон, то оказывалось, что кусок подшитого подола намного вырос.
Она испуганно вздрогнула, ей почудилось, что наступило утро. Она пересекает двор, заваленный свежим снегом, оставляя после себя мокрые черные следы, и вдруг навстречу ей попадается мальчишка из типографии, тот, что вечно бегает к студенту Хьельсбергу с какими-то длинными листами бумаги.
Этот Хьельсберг, верно, считает ее своей знакомой, с тех пор как они встретились здесь во дворе в день его первого появления. Всякий раз, увидев ее, он здоровается с ней и заводит разговор, расспрашивает, где она была сегодня и где будет шить завтра и послезавтра. Послушать его, так она, должно быть, страшно довольна жизнью и зарабатывает уйму денег, недаром она трудится с утра до ночи; а у самого глаза за очками так и блестят. Скоро она станет настоящей богачкой!..
Всегда он веселый, хотя у самого, у бедняги, с деньгами не густо; Тилла говорит, что фру Турсен нелегко выжать из него плату за комнату. Он учится на доктора, и в больнице его хорошо знают.
Как неловко получилось в субботу! И надо же было Майсе выйти во двор как раз в ту минуту, когда прачка ругалась с ним из-за денег за стирку и кричала, что не намерена бесплатно стирать его рвань. Майса готова была сквозь землю провалиться — ведь как ему потом будет совестно, но не могла же она повернуть обратно, она как раз несла платье фру Турсен. Вот и пришлось ей быстро, как ни в чем не бывало, взбежать по лестнице прямо между ними. А он-то с тех пор и не показывается…
Красноватый язычок пламени тускло светил в темной комнате. У Майсы на коленях еще лежали непришитые оборки.
В дверь заглянула фру, чтобы посмотреть, скоро ли Майса кончит; вряд ли стоит заправлять лампу, ей уже немного осталось… В ожидании платья Мина задремала в гостиной.
На рождество Майса по крайней мере как следует выспалась. Она топила печку, варила кофе, спускалась к Дёрумам или сидела у бакалейщика Суннбю, потом снова поднималась к себе наверх и ложилась спать.
Внизу у Дёрумов и у сапожника все тоже долго валялись в постелях: дошло до того, что в первый день рождества мадам Дёрум едва поспела к вечерней службе. На второй день к вечеру они сели перекинуться в карты, чтобы решить, кто чем угощает: кому покупать пшеничный хлеб, а кому — две бутылки пива, и все то и дело позевывали.
Слов нет, чтобы объяснить, какое это наслаждение понежиться в постели, когда начинает смеркаться, а комната освещена отблесками огня из печки; лежать, зная, что можно не вставать хоть до самого вечера… Казалось, она вообще не в силах была ни о чем думать.
Но отдых продолжался недолго. На третий и на четвертый день рождества пришлось шить блузку, которую она давным-давно пообещала служанке бакалейщика Суннбю, а там настала пора приниматься за крестильный чепчик, да и себе платье нужно освежить.
…В воскресенье утром маляр старательно расчистил снег у своих дверей. В крестные отцы пригласили управляющего участком Андерсена и Эллинга, который явился настоящим щеголем в новом сюртуке, белой рубашке и шелковом шейном платке. Девочку собирались назвать Хирстине, в честь тетки с материнской стороны.
Служба так затянулась и на крестины осталось столько народу, что Майса рада была снова очутиться дома и отогреть иззябшие ноги — на улице снег громко скрипел под ботинками.
Мадам Дёрум и Майсе пришлось дождаться, пока девочку уложат в люльку. Пусть сначала заснет, тогда они снимут с нее крестильную рубашку.
Вечером у маляра собралось много народу — Дёрум, сапожник и управляющий с семьями; из города приехала сестра хозяина, ее покойный муж был боцманом, а сама она служила раньше буфетчицей на одном из пароходов, курсировавших по фиорду; две ее дочери тоже где-то «состояли на службе», как они сказали; одна даже именовала себя экономкой и была разряжена в пух и прах.
Обе они вместе с матерью поспешили втиснуться на диван перед столом, накрытым для кофе, рядом с супругой управляющего мадам Андерсен, так что и жене сапожника и мадам Дёрум, которая как-никак была крестной, пришлось довольствоваться стульями. Тогда Майса заставила управляющего Андерсена взять ее стул; вообще же предполагалось, что мужчины рассядутся на скамейках и табуретах позади, а угощение им будут передавать. Тут уж Енсине Андерсен стала уговаривать Майсу сесть на ее место: ведь Майса — крестная.
Дёрумы тоже разобиделись на эту троицу, захватившую диван. Они сидели, чопорно вытянувшись, и, кривя рот, пожимали плечами всякий раз, как те тянулись за пряником или бутербродом; бутерброды с голландским сыром особенно пришлись им по вкусу. Уплетая за обе щеки, мамаша с дочками без умолку тараторили о младшей сестре, которая должна поступить горничной на пароход, а потом, может статься, Теа будет даже буфетчицей на том самом пароходе, где служила мать. Ведь капитан души не чает в мадам Расмуссен.
Толстая позолоченная цепочка от часов прыгала на груди вдовы, которая болтала не закрывая рта, наваливала себе горы закуски, а дочери вслед за ней тянули руки к блюду с бутербродами — вот теперь они попробуют эти, с солониной.
Сколько ни старались другие дамы вставить хоть словечко и перевести разговор на крестины или новорожденную, ничего не выходило!
Вдруг мадам Андерсен поднялась с места:
— Фу, как тут жарко, на этом диване!.. Нельзя ли мне сесть рядом с тобой, Андерсен?
И что вы думаете? Эти трое только поудобнее расселись на диване и, как ни в чем не бывало, продолжали трещать языком.
— Не вообразите только, что эта цепочка у нее золотая, — заметила мадам Андерсен на ухо Майсе Юнс. — И кольца на пальцах тоже не настоящие, всё подделка. Хотите верьте, хотите нет, я просто не могла больше сидеть с ними рядом.
Хозяин-маляр, худой и высокий, с маленькой рыжеватой головой, в нарядном жилете и широкой синей рубахе, ходил между гостями и обносил мужчин пивом и водкой; он с шутками уговаривал выпить, а на лбу у него выступили красные пятна.
Но вот в маленькой спальне закричала новорожденная, и мадам Йёрстад поспешила на помощь своей старшей двенадцатилетней девочке.
— Слава богу, хоть вспомним о ребенке, — сказала мадам Андерсен и посмотрела вдове прямо в глаза.
— Да… Э… Давайте, подождем, покуда мать вернется, — начал маляр своим тонким голосом; наконец-то и ему удалось вставить слово. — Так вот, значит, я скажу, что у меня все время из ума не выходило: мы с женой благодарим крестных, что пошли в церковь с нашей Хирстине, и еще за все хорошие подарки мы тоже честь честью хотим сказать большое спасибо всем гостям.