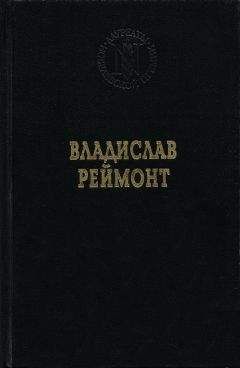Лицо Шаи, худощавое и невероятно подвижное, имело шафранный оттенок, горбатый, длинный нос нависал над верхней губой, запавшей из-за отсутствия передних зубов.
Говорил Шая медленно, подчеркивая каждую фразу и морща очень выпуклый, прорезанный глубокими бороздами бледный лоб со впалыми висками.
Его двадцати миллионам изъявляли почтение и рабскую покорность жалкие единичные миллионы и ничтожные сотни тысяч рублей; его обступили согласным, дружным хором евреи, немцы и поляки; перед его всевластным могуществом, оказывавшим гипнотическое действие даже на самых здравомыслящих, исчезала расовая вражда, ненависть конкурентов, личная неприязнь, перед этой щукой все чувствовали себя пескарями и с тревогой ждали, скоро ли она изволит их проглотить, как определял Давид Гальперн отношение мелких фабрикантов к Шае; но нынче Шая был настроен благодушно, о делах не хотел говорить и начал кое над кем подшучивать.
— У тебя, Кипман, такое брюхо, будто ты туда упрятал штуку ситца.
— Зачем мне прятать штуку ситца в брюхо, если я болен и скоро еду в Карлсбад?
Так беседовали лодзинские миллионеры, а в гостиной становилось все оживленнее, каждую минуту прибывали новые гости.
Пани Эндельман с большим искусством исполняла роль хозяйки дома, муж деятельно ей помогал, и ежеминутно слышалось его пронзительное «а?».
Шелест шелковых платьев, громкие голоса и шепот, запахи духов и цветов создавали праздничную атмосферу в этой просторной гостиной, одной из самых роскошных в Лодзи.
Общество разбивалось на группы, терявшиеся в огромном помещении, среди обилия мебели, и в нескольких соседних будуарах.
Гостиная была угловая, окна выходили в сад, за которым, словно столбы, торчали фабричные трубы.
Желтые шелковые шторы не пропускали солнечный свет, гостиная была погружена в золотистый полумрак, в котором туманно поблескивали рамы картин на стенах, бронзовые украшения мебели и блестящая шелковая обивка стен с вышитыми бледно-зелеными веточками и цветами весьма изящного рисунка; бледно-зеленый бордюр с вышитыми золотом цветами словно обрамлял стены и служил каймою для потолка, на котором была роспись, изображавшая сцену в духе Ватто: луг, растрепанные деревья, ручеек, серебряной лентой вьющийся средь усеянной цветами травы, где паслись овечки с голубыми ленточками на белых пушистых шеях, и кучка пастушков и пастушек, в париках, в коротких платьях, танцевала кадриль под звуки форминги, на которой играл рыжий фавн.
В углу гостиной красовалась изящными формами бронзовая Диана из Фонтенбло среди белых и пурпурных роз, которые причудливыми побегами вились по мраморному постаменту и расцвечивали яркими красками пепельно-зеленоватый тон бронзы. На таком вот фоне и восседал Мендельсон в обществе других фабрикантов.
Вдоль стен стояло несколько гарнитуров мебели в строгом стиле Людовика XIV, белых с золотом, с обивкой, разрисованной или вышитой в бледно-зеленых тонах, над ними висели ряды картин, в большинстве очень ценных, так как у Эндельманов была недурная коллекция, собранная не столько со знанием дела, сколько со страстью; кроме этой мебели, было немало всякой другой в разных стилях, множество столиков, инкрустированных и обитых тканью, китайских креслиц из позолоченного бамбука с аппликациями из разноцветного шелка, позолоченных жардиньерок с цветущими растениями; в мраморном стильном камине горел буйный огонь, отбрасывая кроваво-золотистый отблеск на нескольких юных девиц, среди которых сидели Ружа и Меля.
Пани Эндельман, в роскошном платье из темно-вишневого бархата, украшенном по моде имитациями драгоценных камней на корсаже, скрывавшем пышный бюст, подошла к Руже.
— Если вам скучно, могу прислать к вам Бернарда.
— А нет ли у вас кого-нибудь позабавней?
— Он уже вам надоел?
— Он хорош в будни, но в такой торжественной обстановке мне хотелось бы чего-нибудь другого.
— Могу привести Кесслера или Боровецкого.
— Пан Боровецкий тоже пришел? — встрепенулась Ружа, которая только что видела в гостиной пани Ликерт.
— У нас вся Лодзь собралась! — самодовольно произнесла хозяйка дома, и на ее вывернутых губах, похожих на стоптанные подошвы, расцвела улыбка, с которой она и удалилась величественной походкой, в ореоле завитых, с проседью волос, сколотых брильянтовыми шпильками; ее крупное расплывшееся лицо с тонким, изящным носом и маленькими, сильно подведенными черными глазками сияло гордостью.
Она успевала со всеми поговорить, быть везде, но то и дело посматривала на большой, закрытый холстиной мольберт, стоявший у одного из окон, и на вопросы, что там спрятано, таинственно отвечала:
— Сюрприз! Чудо! Пан Эндельман! — громко звала она мужа, который спешил на ее призыв и, держа ладонь у уха, выслушивал женины распоряжения и торопился их исполнить без промедления.
В буфетной, устроенной в одной из соседних комнат, расположились десятка полтора мужчин во фраках, среди них были Боровецкий с Травинским и Мюллером-старшим, который, раскрасневшись больше обычного, громко разговаривал и, небрежно сплевывая на пол, ругал евреев, так как его раздражала роскошь Эндельманов и их великосветские замашки. Боровецкий подкручивал усы и тупо усмехался, а Травинский поглядывал в открытую дверь на свою жену, которая в этот вечер впервые появилась в лодзинском высшем свете и, сидя в кружке женщин, затмевала всех своей аристократической внешностью и изысканной простотой наряда.
Вероятно, ей было скучно слушать пошлую женскую болтовню — коротко отвечая на вопросы, она разглядывала картины и другие произведения искусства, украшавшие гостиную; море шелков, кружев, бархата, сверкавших несметным множеством драгоценных камней, которые играли всеми цветами радуги, прелестные женские головки, окруженные всем этим великолепием, как бы служили для Травинской роскошной рамой, в которой красиво выделялось ее до верха застегнутое и стянутое в талии золотым пояском белое платье.
— Кто эта прелестная дама? — спросил Гросглик.
— Это моя жена.
— А! Так я вас поздравляю, истинный ангел, четырежды ангел, а не женщина! — воскликнул банкир и заставил Травинского представить его.
— Пан Боровецкий, вы, наверно, многих дам тут не знаете? — спросил Бернард.
— Да, вы правы. Но, может быть, вы меня представите?
— Сегодня это моя обязанность.
Он взял Боровецкого под руку, и они вместе вошли в гостиную, где длинноволосый маэстро уже пробовал рояль, только что принесенный из соседнего будуара.
— И музыка будет?
— Вы лучше спросите, чего тут не будет, на это мне легче ответить. Вы в первый раз на вечере у моей невестки?
— Да, до сих пор все никак не мог выбраться.
— О, тогда мне вас жаль.
— Из-за того, что я не бывал раньше?
— Вот именно, тогда вы бы раньше изведали эту скучищу, — пошутил Бернард.
— О, напротив…
— Внимание, начинаем! Кругленький миллион! — шепнул Бернард на ухо Боровецкому, представляя его дочке Мюллера.
— О, да мы хорошо знакомы! — протягивая руку, обрадованно воскликнула Мада.
— Вот и поговорите о чем-нибудь приятном, а я через минуту приду за своим другом.
— Совсем недавно я уже слышал нечто приятное, тихо сказал Боровецкий, стоя перед Мадой.
— Это вам зачтется! — простодушно ответила она.
— И зачтется, и запомнится.
— Ах, какой вы милый! — воскликнула она и, спохватившись, прикрыла лицо веером.
Он окинул ее таким взглядом, от которого она вся заалелась. Мада нынче была очень хороша в розовом шелковом платье, с букетиком белых ландышей: морковно-желтые золотистые волосы, закрученные греческим узлом, оттеняли белую шею, покрытую, словно пушком, золотистыми пятнышками веснушек, которые, когда она краснела, розовели от прилива крови; золотистые ресницы, окаймлявшие, фарфоровой голубизны глаза, опустились, она не решалась взглянуть на Боровецкого.
— Вам тут весело? — серьезно спросил он, чтобы помочь ей оправиться от смущения.
— Нет… Да… Пожалуйста, сядьте тут рядом.
— Мама ваша пришла?
— Нет, мама не любит таких сборищ, она, знаете ли, чувствовала бы себя здесь неловко, а главное, она не хочет бывать в обществе евреек, — тихо закончила Мада, улыбаясь поверх веера из страусовых перьев.
— А вы?
— Мне безразлично, только вначале я ужасно скучала.
— А теперь?
— Теперь уже не скучаю. Как только вас увидела, я сразу почувствовала себя свободней.
— Благодарю, — с усмешкой сказал Боровецкий.
— Я сказала что-то невпопад? Тогда я ничего больше не буду говорить, рта не раскрою.
— А вот против этого я протестую всеми силами и всей душой.
— Нет, нет, больше не буду разговаривать — ведь что я ни скажу, все или глупо, или смешно.