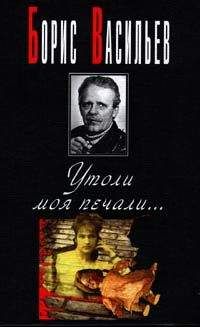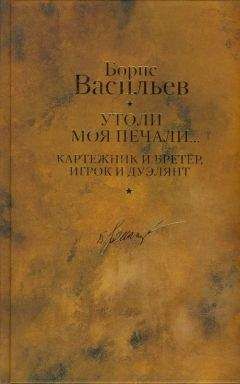Ознакомительная версия.
Он впервые назвал младшую Олексину просто Наденькой, словно был старше. И Хомяков понял: «не был – стал старше». Подавил вздох, покивал головой.
– Расцелую нашу умницу за тебя, Ваня, когда поправится. А вот денег под грядущую вендетту не дам. Ни тебе, ни будущим сотоварищам твоим. Извини, погорячился.
– Я слишком уважаю вас, Роман Трифонович, чтобы принять деньги. Какие бы то ни было.
– Обещай, что заглянешь, коли в Москве побывать случится.
– Непременно, Роман Трифонович. Прощайте. Спасибо за все.
– Прощай, Ваня. Побереги себя.
Каляев вышел, и дверь за ним беззвучно закрылась.
Навсегда.
2
А Хомяков сел за стол, начал читать какие-то бумаги и упорно читал, пока не понял, что ничего сейчас в них не понимает и понимать не способен. Из головы не выходил Каляев, его внезапное возмужание, странный разговор о совести, которую якобы завещали ему мученики Ходынской трагедии. И, как вывод, – последние слова: «Форму надо менять». «Ну менять, согласен, – с непонятным раздражением думал Роман Трифонович. – Но ведь ты, Иван, нетерпелив, ты – как Маша: уж коли менять, так сейчас же, сразу, вдруг, немедленно, бомбой в губернатора. А там – дети. Существа бесформенные, их-то зачем и за что?.. Нет, не пожалеют они детей, не пожалеют. Не каждое столетие Маши рождаются…»
– Василий Иванович приехали!.. – распахнув дверь, радостно объявил Зализо.
Старший Олексин был благообразен, спокоен и бородат. Никогда не позволял себе сердиться, хмуриться, даже повышать голоса: его и так всегда было слышно. Ни на что не претендуя, он тем не менее стал нравственным судией всей семьи, приговор которого никогда и никем не обжаловался.
Причина особого положения Василия Ивановича в семье заключалась отнюдь не в добровольно взваленном на себя тяжком кресте настойчивых поисков путей к совести человеческой. В молодости он был видным народником, одним из основателей наиболее авторитетного и исторически значимого кружка этого движения русской интеллигенции. И не в том, что вследствие этого попал в поле зрения полиции, был вынужден бежать в Америку, где продолжал упорные поиски все того же всеобщего равенства и братства, для чего организовал коммуну по образцу Фурье в штате Канзас. Не в том, наконец, что нашел в себе силы отказаться от социалистических фантазий, искренне разуверившись в них, вернулся на родину, где долгое время перебивался с хлеба на квас, пока не был приглашен графом Львом Николаевичем Толстым в качестве домашнего учителя для старшего сына Сергея. И даже не в том, что, уверовав в богоискательство Толстого, стал одним из первых адептов его нового учения: Олексины не отличались религиозностью, относясь к религии скорее как к привычной и приятной традиции. Нет, главное в отношении семьи к ищущему брату заключалось в том, что сам ищущий брат негромко, но неуклонно демонстрировал в поисках своих на редкость принципиальную честность, твердость и постоянство. А эти качества все Олексины ценили превыше всего.
– Зачем же гневаться? – говорил он спорящим братьям. – Рассудите спокойно, и сами поймете, что не вы сейчас спорите, а пустые амбиции ваши.
– Здравствуй, дорогой мой.
Хомяков троекратно облобызался с Василием Ивановичем, отодвинул его от себя, улыбнулся.
– Рад. Знаешь о нашем несчастии?
– О Наденьке Варя рассказала, пока ты с юношей беседовал. Счастье, Роман, что жива осталась, дар Господень. Остальное в руках Божьих.
– Надеюсь на это, – буркнул Роман Трифонович: не любил ссылок на Господа. – Из Казани или из Тулы?
– Из Казани. К Льву Николаевичу из Москвы заеду. Списались мы с ним заранее.
– Если не возражаешь, с завтраком чуть обождем. Викентий Корнелиевич вот-вот подойти должен.
– Я стакан чаю на вокзале выпил. Так что не голоден.
– Пост соблюдаешь? – улыбнулся Хомяков.
– Скорее образ жизни.
– Суровая у графа религия.
– Добровольное суровым не бывает, Роман.
Усадив гостя, Роман Трифонович на скорую руку познакомил его с московскими и семейными новостями. Рассказал о гибели Фенички и спасении Наденьки, о генерале Федоре Ивановиче, успешно строившем карьеру, о Николае с его дочками и Георгии, практически сосланном за дуэль в Ковно.
– Правильно поступил Георгий. Не взял греха на душу.
– А узел разрубил, – усмехнулся Хомяков.
– Жаль только, что не повидаю его.
Вошла Варвара.
– Вася, знаешь, что мне в голову пришло? – с какой-то напряженной внутренней озабоченностью сказала она. – Может быть, мы вместе к Наденьке поедем?
– С удовольствием, но… Не очень себе представляю свою роль. Мы так долго не виделись.
– Она не просто любит тебя, она тебя чтит.
– Готов хоть сейчас, Варя.
– Нет, нет, после завтрака. Я панихиду по маменьке в храме закажу и за тобой заеду.
Улыбнулась и вышла.
– Варя права, – помолчав, сказал Роман Трифонович. – Не получилось у меня разговора с Наденькой. Растерялся я, ее увидев, и все слова из головы повылетели. Может, ты ее разговоришь.
– Молчит?
– Одно слово мне сказала. «Хорошо». Ровно одно… – Хомяков прислушался. – Кажется, Викентий Корнелиевич пожаловал. Пойдем в столовую, Вася.
Они прошли в столовую, где Роман Трифонович представил мужчин друг другу. За завтраком шла общая беседа ни о чем, почти светская, а потом вновь появилась Варвара и увезла Василия Ивановича с собой прямо из-за стола.
– Самотерзания? – переспросил Василий, выслушав весьма подробный и весьма сумбурный отчет Варвары о состоянии младшей сестры. – Я понял тебя, Варя. Душевный разговор Наденьке необходим, искренний и доверительный. Смогу ли?
– Сможешь, Вася. Кто же, если не ты?
– Не знаю, не знаю, – сомневался Василий. – Здесь откровение нужно. Или мудрость Льва Николаевича. Мудрости нет, до откровения не поднялся…
А войдя в палату, с горечью понял, что здесь и откровения недостаточно. Озарение нужно. Святость…
– Вася…
И опять Наденька попыталась улыбнуться. И опять улыбки не получилось.
– Души слушайся, Наденька. Не хочется улыбаться – не улыбайся, не хочется говорить – не говори. Отринь всякое насилие над нею. Насилие – самый страшный грех. Очень дурные люди его придумали, естеству оно неведомо.
– Душа моя… разбежалась.
– Просто странички в ней перепутались.
– Мя…
Надя замолчала. Пожевала губами, прикрыла глаза.
– Что ты хотела сказать?
– Мятеж.
– Понимаю, душа бунтует. Только в клетку, как Пугачева, ее не посадишь. Приласкать ее надо.
– Кусает.
– Поссорилась ты с ней, – вздохнул Василий. – На Ходынку потащила, унижениям подвергла, вот она и… Тело – форма. Душа – содержание. И прекрасная форма может оказаться пустой, и великая душа прозябать в гнилом срубе.
Наденька вдруг открыла глаза, странно посмотрела на него.
– Ты… все знаешь?
– Всего знать никому не дано.
– Содержание может быть больше. Больше формы.
– Возможно, это не содержание, Наденька? – Василий почему-то очень заволновался, стал терять мысль. – Возможно, это просто опухоль? Перетрудила ты душу свою.
– Взорвется. Вот-вот взорвется. Знаю.
– Значит, на бомбу надо броситься. Как Маша. Ведь дети кругом. Дети.
Василий сказал это внезапно, не подумав. Сказал и вдруг испугался.
– Не так живи, как хочется, а как долг велит. – Наденька впервые ясно произнесла столь длинную фразу. – Так батюшка говорил?
– Да. И матушка. Только для него это был дворянский символ веры, а для матушки – крестьянский. Завтра двадцать лет.
– Поставь за меня свечку.
– И поставлю, и помолюсь.
– Молиться за меня нельзя, – вздохнула Надя. – Я сама должна молиться.
– Да, посредников между человеком и Богом быть не должно. В этом и есть смысл учения графа Льва Николаевича.
– Не надо о смысле. Нет его. Нет никакого смысла. Обещай, что придешь. После маминого дня.
– Приду, Наденька.
– А сейчас иди. Устала я. Я устала, устала, устала…
Василий поцеловал сестру в лоб и тут же вышел.
– Ну, как? Она заплакала? – с ожиданием спросила Варя, бросившись к нему.
– Что?.. Нет, Варя, Наденька не заплакала.
– Жаль, – огорченно сказала Варя.
– Жаль, – вздохнул Василий.
Он был очень недоволен собой, что не смог, как должно, поговорить с Наденькой, утешить ее, успокоить, вселить веру. «Поучал, – с мучительным стыдом думал он. – Несчастную душу, спасения жаждущую, суконными сентенциями пичкал. Все до последнего словечка Льву Николаевичу расскажу, ничего не утаю, ничего. И не отпущения попрошу, а суда. Праведного суда за неискренность свою…»
3
Дома Василий Олексин рассказал о свидании с Надей в самых общих чертах. Он все еще терзался совестливыми воспоминаниями, которые так мучительно жгли сейчас душу. Но сослался на то, что пока еще не разобрался в собственных впечатлениях. Вероятно, его поняли, потому что никто не допрашивал с пристрастием. А он со стыдом думал, что и сейчас лжет, и сейчас не может отыскать в себе сил, чтобы признаться, что неискренность все еще унижает душу его, а справиться с нею он никак не может по ничтожности своей.
Ознакомительная версия.