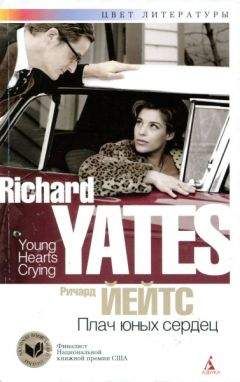IV
Майкл Робартис вернулся часа через два после заката и сказал, что мне надо выучить шаги некоего танца, пришедшего из глубины времен, ибо, прежде чем свершится инициация, я должен трижды пройти в магическом хороводе, ведь ритм - это колесо Вечности, на котором должно принять мучение и умереть все случайное и мимолетное, чтобы дух вырвался на свободу. Оказалось, что шаги эти несложны и имеют сходство с некоторыми па греческих танцев; в молодости я слыл неплохим танцором, знал множество замысловатых кельтских шагов, так что вскорости выучил и эти. Затем Майкл Робартис облачил меня и облачился сам в одеяния, очертаниями напоминающими те, что носили в Греции и Египте, однако багрянец их свидетельствовал о жизни более страстной, чем та, которую ведала античность; в ладонь мне он вложил небольшую бронзовую курильницу в форме розы, сработанную современным ремесленником, и велел открыть небольшую дверь напротив той, через которую я попал в эту комнату.
Я положил ладонь на ручку, но едва я это сделал, как дым благовоний - возможно, виной тому таинственные чары моего наставника, - вновь погрузил меня в грезы: я привиделся себе маской, лежащей на прилавке какой-то восточной лавки. Множество посетителей - глаза их были столь ярки и безучастны, что я знал: они не люди, а нечто иное и большее, - вошли и стали примерять меня на себя, покуда, рассмеявшись, не зашвырнули в дальний угол; однако наваждение минуло в одно мгновение, ибо когда я очнулся, рука моя все так же покоилась на ручке двери. Открыв дверь, я обнаружил за ней изумительной красоты галерею: по стенам ее тянулись мозаичные изображения богов, не менее прекрасные, но куда менее аскетично-суровые, чем мозаики баптистерия в Равенне; цвет, преобладающий в каждой мозаике, был, несомненно, символическим цветом, присущим тому или иному богу, и перед каждым изображением висела того же цвета лампада, источавшая странный аромат. Я шел от одной мозаики к другой, в глубине души изумляясь, как же горсточке энтузиастов в столь удаленном месте удалось претворить всю эту красоту в реальность - перед лицом столь великого богатства, утаенного от света, я был почти готов поверить в материальную алхимию; с каждым моим шагом дым курильницы, стелящийся в воздухе, менял свою окраску.
Я остановился: путь мне преграждала резная бронзовая дверь: казалось, один за другим на меня накатывают морские валы, а сквозь них проглядывают смутно угадываемые - и тем более ужасающие личины. Судя по всему, кто-то, находившийся с той стороны двери, слышал наши шаги, потому что раздался оклик: "Подошла ли к концу работа, что вершит Негасимое Пламя?" - и Майкл Робартис произнес в ответ: "Это золото - из атанора, золото без изъяна". Дверь отворилась: мы оказались в просторной круглой зале, среди одетых в багрянец мужчин и женщин, медленно кружащихся в танце. Со сводов зала на нас смотрела огромная мозаичная роза; стены были выложены мозаиками на сюжет битвы богов и ангелов: боги переливались цветами рубина и сапфира*[31], ангелы же изображались блекло-серым цветом, ибо, - прошептал Майкл Робартис, - они отреклись от своей божественной природы и убоялись обнаженности сердца, обреченного на одиночество, убоялись любви - и все ради бога смирения и скорби.
Своды залы поддерживали колонны, - они аркадой опоясывали помещение, зачаровывая взгляд необычностью форм: казалось, божества ветра, подхваченные горячечным водоворотом запредельного, нечеловеческого танца*[32], устремились ввысь под звуки труб и цимбал; из сгустка вихрящихся очертаний выступали простертые к нам руки, служившие подставками для курильниц. Мне было велено вложить мою курильницу в одну из этих протянутых ладоней и присоединиться к танцующим, и вот, обернувшись, я увидел , что пол выложен зеленым камнем, и в центре его - мозаика: дымчато-серое, едва различимое изображение Распятия Христова. Когда же я спросил Робартиса, что это значит, он ответил, что члены Ордена желают "попирать Его единство своими бесчисленными подошвами"*[33].
Танец длился, подобно волнам, подступая к центру залы, чтобы отхлынуть вновь - и узор его повторял рисунок лепестков розы над головой, и лился звук невидимых инструментов, что пришли из глубины времен - никогда прежде не слышал я им подобных; с каждым мгновением неистовство нарастало, покуда, казалось, все вихри мира не пробудились под нашими ногами. Я выбился из сил, отошел и встал у колонны, наблюдая, как зарождаются и распадаются фигуры танца, подобные языкам мятущегося пламени; постепенно я погрузился в полузабытье, когда же очнулся, моему взору предстало зрелище кружащихся, медленно оседая в отяжелевшем от благовонного дыма воздухе, лепестков гигантской розы, - не мозаики, но сонма живых существ, обретающих облик по мере приближения к полу - облик невиданной красоты*[34]. Коснувшись пола, они присоединялись к танцующим: сперва прозрачные, словно дым, с каждым шагом они приобретали все более четкую форму, и вот я уже мог различать лица богов*[35] - прекрасные греческие и величественные римские лики; имена иных я мог угадать: по жезлу в руке*[36], по птице, парящей над головой*[37].
И вот уже смертная персть шла в танце рядом с бессмертной плотью; в смятенных взорах, устремленных навстречу невозмутимым бездонно-темным взглядам, горел огонь бесконечного желания, - так смотрит тот, кто, наконец, после неисчислимых скитаний, обрел утраченную любовь своей юности. Порой, на одно лишь мгновение, я видел одинокую призрачную фигуру, скользящую среди танцоров лицо ее скрывала накидка, в руке был зажат призрачный факел*[38], - она проплывала, как сон во сне, как тень тени, и пониманием, рожденным из истока, что глубже, чем мысль, я знал: это - сам Эрос, как знал и то, что он скрывает свой лик, так как ни один мужчина и ни одна женщина от начала веков не познали, что же есть любовь, не заглянули ему в глаза, ибо Эрос единственное из божеств, которое и бог, и дух, и в страстях, насылаемых им, никогда не проявлена его сущность, хоть и внятны смертному сердцу его нашептывания. Ибо, если человек любит благородной любовью, он познает любовь через жалость, не ведающую утоления, и доверие, не знающее слов, и сочувствие, не ведающее конца; если же любовь его - низка, то дано ему познать ее в неистовстве ревности, внезапности ненависти и неизбывности желания; но так ли, иначе - она является ему, скрытая под покровом, и никогда не познает человек любви в чистой ее наготе.
И покуда так стоял я, погруженный в свои мысли, воззвал ко мне голос из среды танцоров, облаченных в багрянец: "В круг, в круг, нельзя уклоняться от танца; в круг! в круг! богам, чтобы стать плотью, нужна пища наших сердец, " - и я не успел даже отозваться, как непостижимая волна страсти, казалось, то сама душа танца, что колышется в наших душах, накрыла меня и увлекла в центр хоровода. Я танцевал с бессмертной, величавой женщиной: волосы ее были убраны черными лилиями*[39], плавные жесты казались исполненными мудростью, которая глубже, чем межзвездная тьма, - мудростью и любовью, равной любви, что реяла над водами в начале времен; и мы танцевали и танцевали, и дым благовоний струился над нами, обволакивал нас, словно мы покоились в самой сердцевине мира*[40], и, казалось, прошли века, и бури пробудились и отбушевав, умерли в складках наших одеяний, в короне ее тяжелых волос.
Внезапно я опомнился: веки женщины ни разу не дрогнули, лилии не обронили ни единого лепестка, не колыхнулись - и тут я с ужасом осознал, что танцую с кем-то, кто не человек, но - больше или меньше человека, - кто пьет мою душу, как вол пьет придорожную лужу; и я упал, и тьма накрыла меня.
Очнулся я внезано, словно что-то меня толкнуло: я лежал на грубо раскрашенном полу, на спине, так что видел над собой низкий потолок с намалеванной в центре розой; стены помещения были покрыты наполовину законченными фресками. Колонны и курильницы исчезли; оказалось, что вокруг меня, разметавшись, спят два десятка людей в растрепанных одеяниях; их запрокинутые лица походили на маски, скрывающие за собой пустоту, - и все это освещал холодный свет зари, проникающий сквозь высокое узкое окно, которое я заметил только сейчас; за окном грохотало море. Неподалеку от меня спал Майкл Робартис, - рядом с ним, откатившись в сторону, валялась резная бронзовая чаша - судя по всему, в ней жгли благовония. Я присел - и вдруг понял, что к гулу моря примешивается иной шум - ропот недовольной толпы, раздраженные выкрики мужчин и женщин.
Вскочив на ноги, я бросился к Майклу Робартису, принялся тормошить его, тщетно пытаясь привести в чувство. Тогда, обхватив тело под мышки, я попытался его приподнять - но Майкл лишь слабо вздохнул во сне и откинулся назад; а голоса звучали все громче и обозленней; потом донеслись тяжелые удары - толпа пыталась высадить дверь, что смотрела на дамбу. Внезапно послышался хруст дерева - я понял, что дверь начала уступать, и бросился прочь из залы. Передо мной был узкий коридор - я нырнул в него - некрашенные половицы грохотали под ногами - наконец я увидел дверь, ведущую на кухню; за дверью никого не оказалось - я проскользнул в дверной проем - и тут до меня донеслись два сокрушительных удара; топот шагов и крики заполонили дом - я понял, что дверь, выходившая на дамбу, поддалась. Я рванулся из кухни на улицу, пересек внутренний дворик, пронесся по ступенькам, ведущим к морю, и оказался на берегу, с внешней стороны дамбы. Я бежал по кромке прибоя, а в уши мне бился яростный крик.