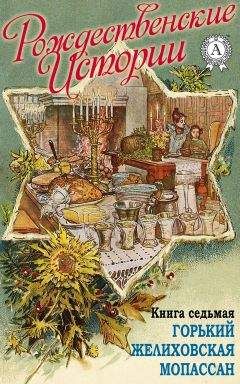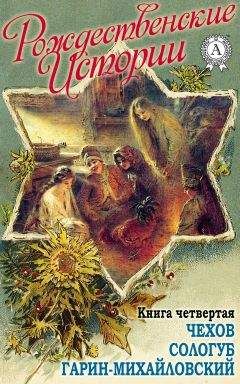– Ты осуждаешь меня? – спросил Павел Николаевич.
– Мне что! Али это моё дело? Я ведь тоже человек, как и ты. Чего я тебя буду осуждать, коли и во мне закону нет.
– Что же мне теперь делать? – задумчиво спросил Павел Николаевич.
– Доделывай уж, что начал, – всё равно!
И вдруг извозчик исчез куда-то.
Павел Николаевич глубоко вздохнул и поглядел вокруг себя. Рядом с ним лежал труп старухи, внизу лестницы труп девочки.
По лестнице был разостлан красный ковёр с чёрными каймами. Где-то далеко, во внутренних комнатах, звенела канарейка. Павел Николаевич встал с пола и громко спросил:
– Это сон?
По комнатам прокатился гул, но никто ничего не ответил ему. Он пошёл вперёд по коридору и в дверь одной комнаты увидал кровать.
– Это спальня старухи. Здесь деньги. Возьму деньги. Всё равно! – вслух сказал он.
Под кроватью стояла старинная низенькая укладка. Павел Николаевич, как вошёл в комнату, тотчас же увидал угол укладки, высовывавшейся из-под простыни. Он наклонился, выдвинул её, – она была заперта, но ключ был тут же. Павел Николаевич отпер её, причём замок звучно зазвенел.
Укладка была до верха полна денег, и Павел Николаевич стал их аккуратно перекладывать в свой ридикюль. Потом он насовал их себе в карманы. Они были такие тяжёлые, эти пачки кредитных бумажек. Он долго рылся в них, и их много осталось в укладке, но он без малейшего сожаления закрыл её крышку.
Потом он вышел из комнаты, спустился с лестницы, равнодушно пройдя мимо двух трупов, и вышел на улицу.
Улица была пуста, шёл снег, и дул сильный ветер. Но Павел Николаевич не чувствовал холода, медленно шёл и всё думал – почему это он так много пережил и ничего не чувствовал?
* * *
…Восемь лет прошло со дня поступка Павла Николаевича.
Его старшему сыну Коле уже минуло девятнадцать лет, одна дочь была невестой, другая обещала через год стать ею, жена Павла Николаевича превратилась из нервной женщины, вечно обременённой заботами о хозяйстве и детях, в солидную даму-филантропку, а сам Павел Николаевич пользовался общим почётом в городе и был первым кандидатом в городские головы.
Деньги старухи пошли ему впрок – он умно распорядился ими. Не боясь ничего, жил покойно, почётно, много работал. Но его характер, простой и общительный, – стал портиться, по общему замечанию знакомых. Павел Николаевич перерождался из нервного, искреннего человека – в человека необщительного, задумчивого, вечно занятого какой-то одной мыслью.
Не угрызения совести терзали его душу, нет, он никогда не давал себе отчёта в том, что сделал, – но его со дня убийства старухи подавлял вопрос:
«Есть во мне внутренний закон или нет?» Чем более удачно укладывалась его жизнь, тем более сильно давил его душу этот вопрос. В день рождества Христова, восемь лет тому назад, весь город говорил о таинственном убийстве старухи и дочери, и Павел Николаевич, оживлённо вступая со всеми в разговоры по этому поводу, зорко следил за собой, ожидая, что вот-вот в нём шевельнётся страх или раскаяние. Но таких чувств не зарождалось в его душе, и тогда он спрашивал себя:
– Да неужели же во мне нет закона, который принудил бы меня почувствовать себя преступником?
Очевидно, что такого закона не было в его душе. Но он не мог забыть о том, что человеку свойственны такие ощущения, как угрызения совести, раскаяние, сознание своей преступности, и всё искал их в себе, – искал, не находил и холодно удивлялся сам себе.
«Куда же всё это исчезло из меня?..»
И жизнь казалась ему странной – не то бредом, не то фантастической жизнью человека, у которого умерло сердце.
Однажды, когда он задал себе вопрос о том, куда исчезли из него человеческие чувства, – пред ним внезапно появился извозчик.
Он был всё такой же замухрышка, как и раньше, и такой же равнодушный философ; время не действовало на его обтёрханную фигуру, не положило заплат на его рваный азям и не увеличило количество дыр на этом азяме. Он появился в кабинете Павла Николаевича, сел на ручку кресла, сдвинул концом кнутовища шапку набок и, поглядев на своего седока, вздохнул.
– Это откуда? – усмехнулся Павел Николаевич. Ему казалось только забавным это неожиданное и таинственное появление извозчика. Это нисколько не смущало и не пугало его.
– Я-то? Я из разных мест… – равнодушно ответил извозчик. – Живёшь?
– Живу, как видишь. А ты кто, чёрт или Агасфер? – снова усмехнулся Павел Николаевич.
– Зачем? Так я, просто себе… творение. Ну, как – закону-то не нашёл в себе? Ищешь всё?
– Ищу, – уже вздохнув, ответил Павел Николаевич. – Ищу, брат, но не нахожу… Странно это, да?
– Очень даже просто, – сказал извозчик. – И не ищи – не найдёшь. Изжил ты законы-то.
– Да почему? – воскликнул Павел Николаевич.
– А потому, что не применял. Не пускал его в ход, в дело. Всё больше рассуждал – какой закон лучше, да так ни одного себе в сердце-то и не вкоренил. Ну, а жизнь-то тебя давила и всё из тебя выдавила. И вот ты дошёл до того, что не только равнодушно смотришь на смерть вокруг тебя, но и сам спокойно убил и спокойно рассуждаешь, зачем убил. Видишь ты вокруг себя одну мерзость, и скверну, и тьму, а в самом тебе никакого свету не возжёг господь. То есть господь-то возжёг, да ты его погасил, мудрствуя лукаво. Ну, и отсохло у тебя сердце и все лучшие чувства с ним. И стал ты как дерево.
– Стой, ты врёшь! Я действую. Я тружусь…
– А для чё? Можешь и бросить всё да так столбом и стоять в жизни-то. Тебе ведь всё равно. Разве твоя работа – истинно есть работа? Поди ты! Ты не от сердца делаешь свои дела, а с точки зрения всё.
– Как это с точки зрения? – изумился Павел Николаевич.
– Как? Не понимаешь ты будто! У вас тут есть разные точки зрения – на этом месте одна, на этом другая. Вот коли ты городским головой будешь, для этого места есть своя точка зрения, а полицеймейстером сделаешься – другая… Тебе главное, чтобы почёт был, чтобы отвечать той точке зрения, с которой на тебя товарищи привыкли смотреть. А огнём ты никаким не пылаешь – делаешь свои дела по мерке да по обязанности. Так ли?
– Пожалуй… Но почему это я такой?
– А ты подумай…
– Ведь я – как мёртвый, поистине говоря.
– А то как же? И в самом деле мёртвый.
– Что же со мной будет?
– Умрёшь, время придёт.
– Это и все другие сделают.
– Ещё бы не сделали! Само собой – сделают.
– А при жизни-то что со мной будет?
– Не зна-аю! – протянул извозчик, покачав головой. – Скверная твоя жизнь, без чувств-то, а? Не говори – знаю, скверная. Жалко тебя, паря. Да я сам тоже равнодушен к жизни-то.
– Что же делать? – задумчиво спросил Павел Николаевич.
– А я почём знаю? Кричи всем, что в тебе закону нету, авось люди услышат…
– Ну, так что?
– Ничего. Услышат – посмотрят в самих себя, может, увидят, что и в них тоже закона нет, и они все, как ты сам, такие же пустые и равнодушные к жизни. Им это на пользу.
– А я?
– А ты жертвой будешь. Это хорошо, жертвой-то быть, за это, слышь, грехи отпускаются…
И он исчез так же странно, как явился. Вдруг исчез. Но и это не поразило Павла Николаевича, как не поразило его появление извозчика. Он слишком был поглощён вопросом о том, почему этот разговор не наполнил его ничем, ни одной думы не зародил в его душе. Он слышал слова, отвечал словами – и звуки не возбуждали в нём чувств. Много в жизни вокруг него раздаётся разговора о жизни, о смерти, о судьбах всего живущего, о будущем и настоящем – во всех этих разговорах он сам принимает участие, но молчит его душа, отсутствует его сердце.
Его не пугала, впрочем, и эта внутренняя пустота; но всё-таки странно было ощущать её в себе.
И он думал, усмехаясь:
«Бедные люди! Как они плохо знакомы друг с другом и как мало проницательны. Вот я убийца, но никто не догадывается об этом, и я пользуюсь даже почётом среди людей».
И глядя на своих семейных, любивших его, он тоже думал:
«Жалкие люди… если б вы знали!»
Но никто ничего не знал, и человек без чувств всё жил и поступал так, как будто бы у него были в груди чувства.
Так и текла его жизнь изо дня в день. Он становился всё более внутренне равнодушен к жизни, но продолжал действовать по примеру, по привычке, по обязанности. Мёртвый духовно, он творил мёртвые дела и знал, что они безжизненны. У него не было души, и он не мог вложить в жизнь душу. А пустота в нём всё росла и развивалась – и это становилось мучительно неловко.
С внешней стороны ему не на что было жаловаться. Его почитали и уважали, считая честным, деятельным человеком. Но это не удовлетворяло его. Все ощущения гибли в нём, как маленькие камешки, брошенные в бездонную пропасть, – прозвучат и исчезают бесследно.
– Неужели нет во мне закона? – всё чаще и чаще спрашивал он себя.
Приближался день его выборов в городские головы. Он не радовался, хотя знал, что его выберут. Откуда-то текли к нему деньги, и слава о нём, как о человеке почтенном, достигала его ушей. Но это не приносило ему с собой ничего. Ему нечем было чувствовать, нечем радоваться, нечем плакать. Люди, у которых жизнь высушила сердце, знают цену такого существования.