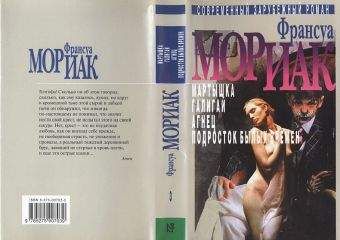VII
Жиль шел по пустынному бульвару, до такой степени погруженный в свои мысли, что оказался перед домом отца совершенно неожиданно для себя. Доктор тщетно пытался завести мотор своего маленького автомобиля с помощью рукоятки. Он выпрямился, лицо его побагровело. У него практически не было шеи. «Ах! Этот стартер!» — простонал он. Жиль сказал: «Давай лучше я». Подошел коротышка-крестьянин и попросил доктора навестить его заболевшую бабушку. Он не понимал, что с ней.
— А она точно еще живая? Надеюсь, ты не заставишь меня сделать восемнадцать километров, чтобы перевернуть труп? Я уверен, что она умерла! — сказал он Жилю. — Когда они посылают за мной... ради какого-нибудь старика...
— Тогда не ходи... Зачем тебе туда тащиться? В один прекрасный день тебя подберут на дороге, — жестко добавил Жиль.
— Это действительно может случиться, — сказал доктор. — Да, малыш, я совсем забыл: в гостиной тебя ждет одна клиентка. Она ждет уже полчаса. Да-да, тебя. Теперь твоя очередь!
— Кто это?
— Пусть это будет для тебя сюрпризом, — сказал доктор (когда он смеялся, глаз не было видно). — И, вероятно, у нее есть что тебе сказать... Поторопись!
Жиль бегом пересек мокрый сад. Перепрыгнул через клумбу петуний. Может быть, это Мари решила воспользоваться вечерней... Нет, эта женщина, склонившаяся над старыми номерами «Монд иллюстре», которые загромождали стол, совсем не походила на Мари. Г-жа Агата встала. Они пожали друг другу руки. Жиль знаком пригласил ее сесть, а сам остался стоять, глядя на нее своими холодными красивыми глазами. Г-жа Агата старалась вспомнить, как она собиралась начать разговор. У нее было время все обдумать в течение получаса, проведенного под взглядом г-жи Салон, чья свадебная фотография висела над роялем. Когда та умерла, спустя несколько месяцев после рождения Жиля, доктор дал обет ничего не менять в убранстве квартиры. Он уже давно перестал горевать, но эти нелепые связанные крючком накидки все еще продолжали украшать кресла в стиле Греви, а на окнах висели рваные шторы с английским орнаментом, который в течение многих лет терпеливо вышивала усопшая.
— Вы догадываетесь, мсье, о цели моего визита?
Он отрицательно покачал головой. Уж не думает ли она, что он станет рассыпаться в любезностях, добиваясь ее расположения? Жиль никогда и ни перед кем не рассыпался в любезностях. Хотя тут мог бы и поусердствовать немного, мог бы пойти навстречу человеку, от которого зависело осуществление того, чего он желал с такой неодолимой силой. Причем она могла пригодиться ему в самое ближайшее время: в Дорте невозможно было встретиться с девушкой из буржуазной семьи без чьей-либо помощи. Галигай говорила медленно, подыскивая слова:
— Мне было доверено воспитание мадемуазель Дюберне. Вы внесли в ее жизнь сильное смятение...
Она говорила, а он думал о том, как бы не задеть, не обидеть ее каким-либо неосторожным словом. Не показать и тысячной доли того отвращения, которое она ему внушала. Он был из тех молодых людей, что не выносят молодых женщин, не возбуждающих у них желания. Боясь, что не сможет скрыть этого, он молчал; и в ответ на ее фразу: «Я обращаюсь к вашему сердцу», у него почти случайно вырвалось:
— У меня нет сердца, мадам.
— Я вам не верю! — воскликнула она.
— У меня нет сердца в том смысле, в котором вы это понимаете.
А поскольку г-жа Агата молчала и смотрела на него снизу вверх, он внезапно сел перед ней, придвинул свой стул так, что его угловатые колени почти касались ее серой английской юбки, и спросил:
— Что вы пришли мне сказать?
Какой грубиян! Она немного отодвинула свой стул. Он тоже внушал ей отвращение: она ненавидела в нем эту дремлющую мужскую силу, которую вдруг сумела пробудить ничего собой не представляющая дурочка, тогда как яркая личность вроде нее не имеет над ним никакой власти.
— Только вы одна можете убедить госпожу Дюберне, — сказал Жиль. — А знаете, кого вы напоминаете Николя?
Она покраснела, не в силах сдержать волнения при мысли, что Николя думает о ней в ее отсутствие, даже сравнивает ее с кем-то.
— Леонору Галигай... вы помните, кто это, Леонора Галигай[3]?
— Да, — сказала она, смеясь. — Она взяла власть над Марией Медичи, не пользуясь никакими иными средствами, кроме тех, которыми располагает сильная душа по отношению к слабому характеру. Но вы ошибаетесь, думая, что у г-жи Дюберне слабый характер.
— Но ведь вы — сильный человек.
— Может быть...
Она вздохнула и, помолчав, сказала:
— А кстати, очень ошибаются те, кто думает, что у Николя Плассака слабый характер. Он у него вовсе не слабый, отнюдь нет.
— Но он очень хороший друг, он, можно сказать, просто любит меня, — сказал Жиль.
Он встал, чтобы открыть окно, которое, скорее всего, закрыла служанка во время грозы, и пробормотал про себя: «Эти бесцветные девицы, даже если они и моются...» Он полной грудью вдохнул запах намокших под дождем петуний. Ему показалось, что Галигай обдумывает, как лучше ответить, но она размышляла над услышанной фразой «Он просто любит меня». Этот юный Салон был единственным человеком, который мог повлиять на Николя. Если Николя Плассак и соизволит когда-нибудь жениться на Агате де Камблан, то только ради того, чтобы обеспечить счастье этому вот грубияну с манерами злобной собаки. С усилием она произнесла:
— Между нами есть разница. У нас разные задачи: вам ведь не нужно убеждать Мари... Вам достаточно устранить внешние препятствия. Тогда как в моем случае...
— Да-да, разумеется! Но я не обещаю вам, что это удастся! — прошептал он.
Он почувствовал, как запылали его щеки, и вернулся к окну. Что она думает, эта ужасная девица, что он преподнесет ей Николя? Но было бы достаточно, если бы Николя просто ввел ее в заблуждение, ненадолго, пока они с Мари не обручатся. Нет, нет, он не может отдать ей Николя! Ему подумалось, что отныне запах петуний, омытых грозовым дождем, для него всегда будет связан с воспоминаниями об этой минуте, когда он, не слишком благородно воспользовавшись ситуацией, едва не предал своего друга. И он также понял, что любит его, своего друга, больше, чем кого бы то ни было, что, быть может, он вообще никогда никого не любил, кроме него. Он забыл об этой женщине в углу, которая напоминала ему прицепившуюся к шторе летучую мышь. После долгой паузы он обернулся. Она наблюдала за ним. Он спросил:
— Когда я увижу ее?.. Мари. Когда я увижу Мари?
— Вы с ума сошли? Об этом не может быть и речи... по крайней мере, сейчас. Какой вы все-таки ребенок!
Она явно насмехалась над ним.
Все было сказано. Она поднялась, протянула Жилю руку, которую тот взял кончиками пальцев.
— Вы принимаете меня за дурочку!
Он покраснел и отвернулся: она разгадала его. Да, все было предельно ясно. Слов больше не требовалось.
Вечерняя трапеза семейства Дюберне заканчивалась в саду, без света. Между ветвями огромного тюльпанного дерева появилась луна. Г-н Дюберне неспешно доедал сыр. Мари, словно парившая над стулом, дрожала от едва сдерживаемого нетерпения. Она смогла переброситься с г-жой Агатой всего несколькими словами, потому что мать, быть может, заподозрив что-то, вошла в комнату учительницы через несколько секунд после нее. Арман Дюберне вдруг задал неожиданный вопрос, а ведь можно было подумать, что он всецело поглощен своим пищеварением. Оказалось, что вовсе нет: он думал о вещах серьезных.
— Агата, вы прочитали в «Ревю» неизданные вещицы Монтескье, которые там только что опубликовали?
— Становится по-настоящему прохладно, — тотчас заметила Юлия Дюберне.
Пятнадцать лет назад, когда Арман еще не настолько отупел от своего животного образа жизни, он называл это «вставкой Юлии» или «выстрелом Юлии». Она уверенно «убивала» на лету любой начинавшийся за столом разговор. Арман Дюберне замолчал и опять занялся рокфором. Мари стремительно вскочила со стула, почти взлетела. Мать одернула ее:
— Сиди, пока я не разрешу выходить из-за стола.
Мари снова села. Арман Дюберне допил вино, вытер усы.
— Не жди меня, девочка, не ждите меня.
Он вытащил из кармана жилета сигару, размял ее. А Мари уже и след простыл. Она успела сказать г-же Агате: «Я буду на террасе». Учительница не спешила на встречу. За ней наблюдала Юлия. Возможно, она ей не доверяла... Хотя нет, вряд ли, поскольку она вдруг сказала Агате:
— Пойду прилягу. У меня больше ничего не болит, но я чувствую себя разбитой. Не отходите от Мари. Кто знает, не бродит ли этот мальчишка где-нибудь около террасы, вдоль Лейро? Это же ведь настоящие обормоты.
Агата посидела некоторое время с Арманом.
— Вы ведете себя не слишком благоразумно, — сказала она ему. — А мне нужно пойти присмотреть за Мари.
Он не стал ее задерживать, но немного поворчал, потому что успел уже погасить свою сигару.
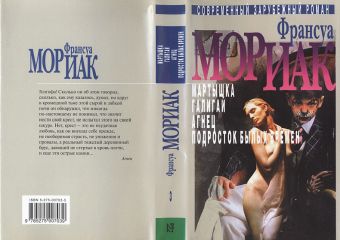
![Франсуа Мориак - Том 3 [Собрание сочинений в 3 томах]](https://cdn.my-library.info/books/135894/135894.jpg)