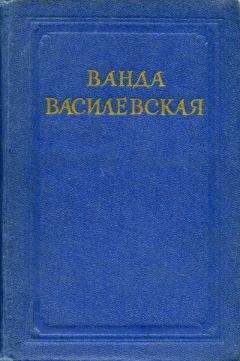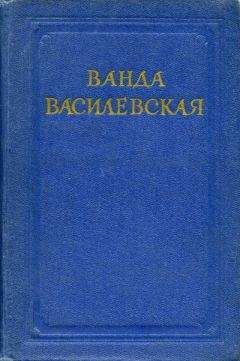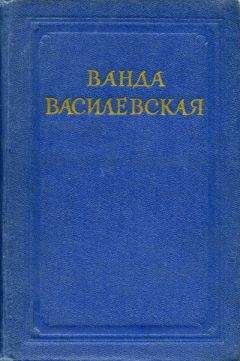Изредка попадались караси, то тут, то там кто-нибудь брал в руки золотисто-зеленого линя. Но больше всего было карпов — крупных, жирных, плоских.
Спина уставала ежеминутно наклоняться, болела. Но теперь начиналось самое трудное. Рыба зарылась в грязь, исчезла в густой жиже. Приходилось разгребать пальцами грязь, как граблями. Конечно, граблями было бы скорее, но управляющий запретил, чтобы не повредить рыбу. Грязь забиралась под ногти, въедалась в потрескавшиеся, всегда чем-нибудь пораненные руки.
Дети радостным криком встречали каждую найденную в грязи рыбешку, — известно, дети…
Теперь рабочие по одному выходили на берег, вымазанные вонючей грязью. Еще нужно было рассортировать мелкую, среднюю и крупную рыбу по огромным кадкам, которые тут же грузили на телеги. Линей и карасей отдельно. Угря арендатор подарил управляющему. Толстый был угорь, хоть и верткий, как змея.
С рыбы смывали грязь и бросали ее в кадки. Аж глаза разбегались от этого богатства. Сотни, сотни рыб. В глазах двоилось и троилось от долгого гляденья на эту сверкающую подвижную массу. Освободившись от грязи, рыба весело плескалась в кадках. То одна, то другая так шлепнет хвостом, что кругом брызги летят на людей, на лошадей, на телегу.
Арендатор что-то записывал мелкими буковками в своей книжечке, переплетенной в черную клеенку. Он внимательно следил за рыбой, казалось, у него тысяча глаз. При сортировке за людьми особенно наблюдали. Они работали теперь плотной кучкой, не так как на пруду, и кто-нибудь мог незаметно стащить рыбину.
Кшисяк усердно перекладывал самых крупных карпов из ведра в кадку, но думал все об одном. Как освободиться до обыска, которым заканчивалась работа, от карпа, чье холодное, скользкое прикосновение он чувствовал на голом теле, в подвернутой штанине. Когда все были заняты погоней за угрем, ему удалось незаметно засунуть карпа за пояс. Теперь он опустился ниже и трепыхался в штанине так сильно, что мужику приходилось двигаться осторожно, потихоньку, чтобы незаметно было, как шевелится рыба при каждом его шаге.
Хороший был карпик — не из самых крупных, даже и не из средних, на такого Кшисяк не посмел бы посягнуть: как его спрячешь, сейчас же заметили бы. Но все же ничего себе карп. На темном гладком боку ровная золотистая чешуя. Круглый, хорошо откормленный. Кшисяк размышлял, как Магде его приготовить, чтобы было повкуснее. «Зажарить бы, — управляющий, тот всегда ел жареных. Да жарить-то на чем? Хоть бы уху сварить», — думал он, опуская в кадку огромного карпа, пожалуй кило три весом.
Как назло Магды не видать поблизости. Может, удалось бы как-нибудь пустить рыбу в траву, в конский щавель, который рос тут повсюду. Баба подняла бы, и кончено дело. А так еще кто-нибудь заметит, да и заберет себе. Небось не пожалуешься. Ведь краденое, — всякий может побежать, донести — и все пропало.
Арендатор был доволен. Но для виду, чтобы не повысили аренду, крутил носом и рылся в рыбе, как в прошлогодней соломе. По условию, в течение года, в определенные дни, усадьба брала к обеду рыбу из пруда. У арендатора сердце болело из-за этих карпов. Он уже раз десять подходил к стоявшей поодаль кадке, где они лежали отдельно, качал головой и вздыхал.
Кшисяк помогал Валентину поднимать на телегу большую кадку. Они осторожно присели, чтобы она не качнулась. Кадка стояла прочно. Измазанными грязью руками они отирали со лба пот, когда к Кшисяку вдруг подошел управляющий. Он ничего не сказал, а неожиданно пнул мужика в ногу. Кшисяк побледнел, по лицу управляющего понял, что он уже знает.
— Вор!
Обороняющимся жестом Кшисяк протянул руки вперед. Арендатор торопливо кинулся на крик.
— Рыбу украл?
— Рыбу. Видите, как она у него трепыхается.
Кшисяк подвернул штанину. Карп скользнул вниз и выпал на траву. Не из самых крупных, нет, даже не из средних, но ничего себе карпик. Он лежал на траве и тяжело раскрывал жабры. Открывал и закрывал круглый рот. Золотая чешуя лоснилась на темном боку.
Кшисяк стоял и смотрел.
Стало тихо. Даже возчик, с кнутом в руках, отошел от лошади и остановился, ожидая, что будет.
Батраки столпились у телеги и тупо смотрели на карпа. Словно только он, один-единственный, и был в нынешнем улове. Самый важный.
Притихли ребятишки, уже раньше отогнанные приказчиком на другую сторону дороги, чтобы не путались под ногами.
— Чего мешкаешь? Скорей бросай в воду, и так еле дышит.
Кшисяк нагнулся. Медленно. Ах, как не хотелось ему разгибать спину. Он несколько мгновений смотрел на стебли травы. Ему казалось, что прошло уже очень много времени. Если бы можно было не поднимать головы, если бы не надо было глядеть на рожу арендатора, который дергал свой черный ус, на длинный нос приказчика, на круглое лицо управляющего! Кшисяк осторожно взял в руку карпа. Ступил шаг к телеге, чтобы опустить в кадку… В голове у него мешалось — где мелочь, где средняя, где крупная рыба.
— Не сюда! Ослеп? — с подавленной злобой прошипел управляющий.
Он бросил карпа куда следовало. Теперь пришлось обернуться. Он стоял один перед всеми. Слегка прислонился спиной к телеге.
Управляющий ступил шаг вперед. И еще шаг. Теперь он стоял прямо против Кшисяка.
— Рыбки захотелось, сукин сын? А картошку жрать не угодно? — заорал он, и его лицо залилось краской.
И хлестнул по морде. Коротко. Жестоко. Решительно. Потом еще раз. Его охватывало бешенство.
— Рыбки захотелось? — повторил он хрипло.
Золотые искры заплясали в глазах. Покорно согнувшись, Кшисяк отошел в сторону. Ему хотелось расплакаться, как малому ребенку. Он поглядел в сторону бараков.
— Куда? За работу! — как бичом хлестнул его голос управляющего.
Он вернулся и принялся выбирать рыбу из ведер, перекладывать в кадку. Мелкую, среднюю, крупную. По порядку. Как полагалось.
Толпа батраков притихла. Теперь уже ничего не было слышно, кроме сердитого посапывания управляющего и плеска рыбы, падающей в кадки. Ребятишки рассеялись во все стороны, кто к баракам, кто в деревню.
Опустевший пруд испускал нестерпимый смрад под лучами догорающего солнца. Водоросли быстро высыхали, съеживались, серели, сливались в одно с илом, который вымесили десятки ног.
Придя домой, Кшисяк не перекинулся ни одним словом с Магдой, хотя она неосторожно спросила, какой улов. Он мрачно сидел на табуретке и мочил ноги в лоханке с теплой водой. Легонько шевелил пальцами, чтобы смыть ил и грязь, которые въелись между пальцами, во все складки и поры кожи.
Тихо плескалась вода. В ней отражался слабый, трепетный блеск висящей на гвозде закопченной лампочки. Кшисяк засмотрелся на него, шевельнул пальцами, и золотая струйка замутилась, растаяла, чтобы тотчас появиться, принять первоначальную форму.
Теперь ему пришло в голову: «А что, если бы я там, над прудом, треснул управляющего кулаком в живот, внезапно, снизу, так, чтобы тот ногами накрылся? А потом, повалив на землю, еще и еще раз, сапогами, подкованным каблуком в зубы? Я же был босиком, — вспоминал он лениво. — Нет, все равно это нельзя себе представить, рука, пожалуй, не поднялась бы».
Бил управляющий. Для того и поставлен. Бывало, даст затрещину и приказчик. Тоже для того поставлен. Так уж веками повелось. Управляющий и приказчик затем и созданы, чтобы бить, а мужик, чтобы было кого бить.
«А ведь приказчик тоже из мужиков, — подумал Кшисяк. — Другое дело помещики. У покойного барина, говорят, была тяжелая рука». Кшисяк начал работать в усадьбе уже после его смерти. Поехал барин за границу, в чужие края, где, говорят, и снега не бывает. И больше не воротился. Барыня с детьми ездила на похороны. Вернулась в глубоком трауре, хотя рассказывали, что помещика хватила кондрашка, когда он был с какой-то девкой. Жирный был уж очень и полнокровный, да и в годах уже, а тут его разобрало с этой, там их, какой-то любовью.
Ну, тот, говорят, лупил остервенело. За всякий пустяк. Если батрак недостаточно низко поклонился. Если барину показалось, что дерзко взглянул. За пятнышко грязи под конским копытом. За одну стружку, принесенную на ногах в конюшню. Помещик без памяти любил лошадей и ради лошади готов был человека убить. Всякого лихорадка трясла, когда попадался ему на глаза. Никогда не угадаешь, что и как. Одно было известно: барин затем и создан, чтобы бить. А мужик, чтобы слушаться и чтобы кланяться барину в ноги.
Барыня, та была вспыльчива и сердита, но отходчива, людей все-таки жалела. Правда, и она иногда хватит по щеке, а рука у нее была тяжелая, хоть и женская. А все же она иной раз заходила в бараки, если кто болел, давала лекарство, перевязку, если кто порезался, делала. Покричать любила, это верно, да так резко, хлестко, как кнутом стегала.
Барышня, та уж совсем другая. И не поглядит на человека. Батрак для нее хуже собаки. Когда, бывало, говорит что-нибудь или приказывает, будто перед ней воздух. Серые глаза смотрели сквозь человека, словно сквозь стекло. Никогда не поблагодарила, не улыбнулась. Холодная, как лед. Эта не била, но все понимали: не бьет, потому что брезгает прикоснуться.