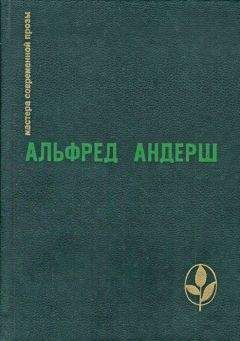— Мой отец всегда разыгрывает скромность. — Теперь уже Конрад поучал Рекса, поучал насмешливо, холодно. — Он на это мастер. Но в действительности… — Фраза повисла в воздухе, он только пожал плечами и продолжил:-У нас два замка, три сотни гектаров полей и три сотни гектаров леса.
— Я знаю людей того же сословия, что и твой отец, у которых три тысячи гектаров земли, — возразил Рекс; он хотел проявить находчивость, но не сумел, видно было, как он злится. Он злится не по поводу того, что сказал Конрад, а потому, что тот вообще что-то сказал, подумал Франц. В школе попросту не бывает, чтобы ученик возражал своему учителю — тем более Рексу! — да не только возражал, но еще и демонстрировал, что может разговаривать со своим учителем, как с любым человеком. Здорово же он это сделал! Рексу следовало одним движением руки отмахнуться от этого беззастенчивого бахвальства замками, полями и лесами, а вместо этого он пустился в пререкания с Конрадом и никак не может из них выбраться. — Ваши замки не очень-то старинны, — брюзгливо сказал Рекс, возможно уже понимая, что партия им проиграна. — Шестнадцатый век, — произнес он таким тоном, словно это пустяк. Да еще не удержался и похвастался: — Мы, Гиммлеры, намного старше. — Он поднял правый указательный палец. — Доказано существование очень старого верхнерейнского городского патрициата. Есть дом Гиммлеров в Базеле и еще один в Майнце. На доме в Базеле указан 1297 год!
— Поздравляю! — сказал Конрад.
Наверно, он, как и все остальные, вряд ли знал, что такое «городской патрициат»; на уроках истории от второго до пятого класса им такое слово еще не встречалось, Франц скучал на этих уроках, ему не хотелось заучивать наизусть годы битв, в которых решались, как им втолковывали, судьбы народов или великих людей. «Городской патрициат», судя по тому, как произнес эти слова Рекс, должно означать нечто значительное, что-то вроде «дворянства», чего Конрад фон Грайф ни за что, конечно, не признает, для него ничто ведь и в подметки дворянству не годится, но он не мог спорить с Рексом по поводу незнакомого слова, да теперь ему было на все наплевать, думал Франц, потому что он хорошо знал, что ему не искупить оскорбления Рекса. Одним уж тем, что назвал Рекса по фамилии, он нарушил первейшее школьное правило: учителя не имеют фамилии, они имеют титул, в общении классного наставника с его учениками не может быть никакого «господина Кандльбиндера», есть исключительно только «господин профессор», а Конрад не только назвал Рекса по фамилии, но и прямо заявил, что тот для него всего лишь фамилия, Гиммлер, — такую тяжкую обиду ничем не загладить, Конраду теперь все безразлично, его не интересуют последствия, ему важно лишь испробовать, до какого предела можно дойти. У Кандльбиндера для него все равно все потеряно, а теперь и у Рекса потеряно безвозвратно, в сущности, он ничем больше не рискует, даже если сверхнагло поздравит его с «городским патрициатом».
«Поздравляю!» Это было уж слишком! Он преступил все границы.
Классный наставник, в течение всей сцены маячивший тенью у черной доски, наконец шевельнулся, хотел вмешаться, прийти на выручку высокому шефу, может быть, даже воскликнуть что-нибудь вроде «Это же неслыханно!», но и теперь его опередил Рекс, которому ничего другого не оставалось, кроме как мстить, не может же он проглотить это «Поздравляю!», подумал Франц и снова восхитился Рексом, который не вспылил, а остался спокойным, не обнаружил никакой раздраженности.
— Ну-ну, — сказал он, придав голосу равнодушный, почти усталый тон, — тут, кажется, уже ничем не помочь. — И он изрек приговор, который наверняка был вынесен уже тогда, когда Конрад Грайф назвал его всего лишь каким-то господином Гиммлером. — Я напишу твоему отцу и попрошу его забрать тебя из этой школы, — сказал он. — Насколько я знаю, он не будет в восторге. Но он поймет, что для такого болвана, как ты, в моей школе нет места.
Его школа, подумал Франц. Словно она ему принадлежит! А она ведь такая же гимназия, как и все другие. Но он говорит "Моя школа», «мой младший „Б"» так, будто может с ними делать что хочет.
Итак, Конрада исключили, хотя он «отличный грек», но такой наглый пес, что сам Рекс с ним не справился. У них еще не бывало, чтобы школьника исключали. Слово «исключить» означало для них темную угрозу наказания столь тяжкого, что оно никогда не применялось.
Поскольку Конрад все еще стоял спиной к классу, Франц не мог видеть, какое впечатление произвели на него слова Рекса, — по-видимому, никакого, потому что он не потерял дара речи, напротив, они услышали, как он без промедления почти весело сказал:
— В таком случае мне незачем сегодня отсиживать час ареста, не так ли, господин обер-штудиендиректор?
Наконец-то ему удалось вывести ректора из терпения — истинного или мнимого, подумал Франц, — Рекс поднялся из-за кафедры и прикрикнул на ученика:
— Садись, Грайф! Тебе придется еще подождать извещения школы. До тех пор изволь подчиняться ее правилам.
Они увидели, как Конрад, чуть помедлив, пожал плечами и повиновался приказу. Это выглядело так, словно он хочет сказать: «Тот, кто умнее, уступает». Собственно говоря, ему уже незачем уступать, подумал Франц, его выгнали, он мог бы сложить свои книги и тетради и удалиться, но Конрад повернулся и пошел на свое место, и лишь кривая усмешка напоказ выдавала, что он не совсем чувствует себя победителем, хотя и взял верх в этом единоборстве.
Рекс больше не садился. Он покинул возвышение позади кафедры, некоторое время постоял около классного наставника, они поговорили шепотом, наверняка о Конраде, подумал Франц; видимо, Рекс дает указания Кандльбиндеру, как обращаться с Конрадом, пока тот еще в школе; в классе зашумели, ибо напряжение спало, и Рекс не призвал их к порядку, но все сразу же затихли, как только он начал расхаживать взад-вперед между рядами — дородный мужчина в светло-сером костюме из тонкой материи, под расстегнутым пиджаком белая рубашка куполом покрывала живот, голубой галстук, безупречно повязанный и уложенный, все еще сиял, а из-за очков в тонкой золотой оправе снова приветливо, даже благорасположенно смотрели голубые глаза, сквозь конский каштан на дворе изливался на закрытые окна классной комнаты свет прекрасного майского дня, Мюнхен светился, Рекс светился, и тем не менее все думали о том же, о чем думал Франц: теперь он выискивает новую жертву. Он больше не позволит Кандльбиндеру вызывать учеников, господи, подумал вдруг Франц, да он же и меня может поймать, его испугала сама мысль о том, что старый Гиммлер может именно его вызвать к доске, чтобы проверить его греческий.
Франц стал называть его про себя «старый Гиммлер», а не «Рекс», потому что, как только Конрад Грайф дал этой важной птице имя — так же как собаку кличут не «собака», а «Гектор» или «Буци», — он вспомнил, что, когда поступал в гимназию, отец предостерегал его.
— Виттельсбахский обер-штудиендиректор — старый Гиммлер, — сказал он. — Берегись его! Вряд ли тебе, особенно в младших классах, придется иметь с ним дело, но, если придется, старайся не показаться ему в дурном свете. Это человек опасный!
Прошло уже добрых три года, и титул сам собой оторвался от фамилии, реке был для всей школы именно Рексом, а всего лишь каким-то господином Гиммлером он был, по-видимому, только для Конрада Грайфа. Впрочем, отец никогда не говорил ему, почему считает этого человека опасным. Но Франц удивлялся, почему он называл его «старый Гиммлер», Рекс ведь старше отца не более чем на несколько лет! Но прежде, чем он успел расспросить его, он получил ответ посредством сравнения — отец упомянул «молодого Гиммлера», сына обер-штудиендиректора.
— Молодой Гиммлер в полнейшем порядке, — рассказывал отец. — Отличный молодой человек, сторонник Гитлера, но не ограниченный, он всегда приходит и к нам, людям Аюдендорфа, и в «Рейхскригсфлагге»[3]; из молодых ребят, которые часто у нас бывают, он самый толковый и надежный, спокойный, но с железной хваткой, родился в тысяча девятисотом, потому и не успел на фронт, но я думаю, в окопах он наверняка не сплоховал бы, мне бы такого в роту. Он насмерть рассорился с отцом, старый Гиммлер состоит в Баварской народной партии, он церковник до мозга костей, считает себя, правда, патриотом, но в войну был «героем» тыла, да к тому же и не антисемит, вовсе не считает зазорным общаться с евреями — подумать только: с евреями! — поэтому сын прервал с ним отношения, молодой
Гиммлер ни за что не сядет за один стол с евреями, иезуитами и масонами. Старый Гиммлер карьерист, — добавил он. — Остерегайся всегда карьеристов, сын мой! — сказал он торжественно. — Он каждое воскресенье ходит к мессе в Михаэлискирхе на Кауфингерштрассе. Там ты их можешь увидеть всех разом, эти сливки мюнхенского общества.