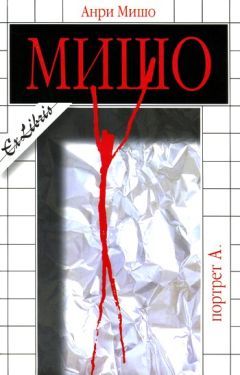По правде
(пер. А. Поповой)
По правде, когда говорю:
«Гигант и храбрец,
Вот он какой мертвец.
А где вы видали таких
Живых?»
Мертвец — это я.
По правде, когда говорю:
«Не тяните родителей в ваши игры.
Там нет для них места.
Женщина вас родила — это все, что она могла.
Не просите ее о большем.
И не разводите трагедий.
Горе — это обычное дело».
По правде, та женщина — это не я.
Я — это добрый путь, который примет любого.{23}
Я — это добрый клинок, рассекающий все, что встретит.
Я — это тот…
Другие — не те…
Несите прочь
(пер. В. Козового)
Несите прочь меня на каравелле,
На доблестной старинной каравелле,
Пусть на носу, пусть в тянущейся пене,
И бросьте, бросьте вдалеке.
В кабриолете былых столетий,
В пуховой снегопадной мути,
В клубах летящей по следу стаи псов,
В листве, полегшей скопищем бескровным.
Несите не за страх, в целующих губах,
В грудных, со вздохом, клетках зыбких,
На ковриках ладоней, в их улыбках,
В лабиринтах костей и младенческих хрящей.
Несите прочь, а лучше схороните.
Каждый день потеря крови
(пер. А. Поповой)
Горе свистнуло своим деткам, указало им на меня
И велело: этого — не бросайте.
И они меня не бросали.
Горе свистнуло деткам и велело:
Не оставляйте его.
И они остались со мной.
Тебе, которую не знаю, где разыскать, тебе, которая не прочтет эту книгу,
Ты ведь всегда была от писателей не в восторге:
Мелкие людишки, крохоборы, тщеславцы и врали,
Ты, для которой Анри Мишо — теперь просто имя, вроде тех, что ты видишь в газете в разделе происшествий с указанием возраста и рода занятий.
Ты, что живешь в других компаниях, среди других равнин и других дуновений.
А ведь я для тебя рассорился с целым городом, столицей большой страны,
Ты, которая мне не оставила даже волоска на прощанье, попросила лишь сжечь твои письма, может и ты в этот час сидишь, задумавшись, в четырех стенах?
Скажи, тебе все еще нравится ловить на свой мягкий больничный взгляд робких юнцов?
У меня-то взгляд все такой же — пристальный и безумный.
Я по-прежнему ищу свое личное невесть что —
Невесть что себе в помощь среди этой бескрайней незримой и плотной материи,
Которая заполняет пространство между тел из материи как таковой.
И все-таки я доверился новому «мы».
У нее, как у тебя, глаза словно ласковый свет — только больше, голос — гуще и ниже, и начало жизни и весь ее путь схожи с твоими.
И еще она… мне теперь нужно сказать: была!
Потому что завтра я ее потеряю, подружку мою, Банджо.
Банджо,
Банджо,
Бамбарабанджо и ближе тоже,
Бимбилибом всех милей,
Банджо,
Банджо,
Банджо, одна-одинешенька, банджелетка,
Банджо, бай,
Моя нежная милая Банджо,
Больше нету рядом твоей тонкой шейки,
Даже тоньше,
И самой тебя нет несказанно близко.
Мои письма, Банджо, были сплошное вранье… а теперь я уезжаю.
У меня в кармане билет: 17.084.
Нидерландская Королевская Компания.
Просто едешь по этому билету — и ты в Эквадоре.
Завтра мы — я и билет — отбываем,
Отправляемся в город Кито с именем колким, как нож.{24}
Когда я вспоминаю об этом, то весь сжимаюсь;
А мне говорят:
«Так пусть она едет с вами».
Ну да, ведь мы и просили всего лишь о маленьком чуде,
эй вы, наверху, лентяи, вы — боги, архангелы,
праведники и феи,
философы и братья по духу,
которых я так любил, — Рейсбрук и Лотреамон,{25}
ведь сами-то вы себя не считали нулем в квадрате;
одно только небольшое чудо — вот все, что нам
было нужно —
Банджо и мне.
Я — гонг
(пер. А. Поповой)
В песне моей ярости скрыто яйцо,
А в этом яйце — мой отец и мать и все мои дети,
И во всем этом вместе — радость и грусть вперемешку
и просто жизнь.
Грозные бури, которые меня выручали,
Дивное солнце, которое сбивало с пути,
Во мне обитает сильная застарелая злость,
А с красотой разберемся позже,
Вообще-то я огрубел только снаружи;
Вы бы знали, каким я остался мягким внутри.
Я сразу и гонг, и вата, и снежная песня.
Я так говорю и верю, что так и есть.
Боже мой
(пер. А. Поповой)
Жила-была как-то крыса,
И уж так ей досталось,
Нет, надо сказать, это был баран,
И его, должно быть, так придавило,
Хотя нет, это, честное слово, слон,
И притом, учтите,
Один из огромного множества африканских слонов,
Которые все слегка маловаты ростом,
Так вот, его уж так придавило,
А потом шли крысы, а после — бараны,
И так их всех придавило,
И был еще один негодяй,
И уж этого так придавило,
И не одного негодяя,
И не просто зажало… не просто придавило…
О какая тяжесть! Все уничтожить!
И ошметки Тварей земных — туда же!
Безотказно чарующий лик разрухи!
Безупречный головомой, о Боже, зовем тебя в голос.
Заждался тебя наш невиданно круглый мир. Ну, заждался.
Всё — в лепешку!
О безупречный Боже!
Из книги
«Дикарь в Азии»{26}
(перевод А. Поповой)
Управляйте империей так, как вы стали бы готовить маленькую рыбку.{27}
Лао-цзы
Двенадцать лет отделяют меня от этого путешествия. Оно осталось там. А я — тут. Оно для меня уже пройденный этап, а я — для него. Путешествие это не было научным исследованием, и его уже не представишь исследованием, не придашь ему большей глубины. Тем более, ничего не исправишь.
Оно отжило свой век.
Я ограничился тем, что поправил несколько слов, не трогая основной линии.
А. М. 1945
Пропасть еще выросла, теперь это пропасть в тридцать пять лет.
Азия тем временем движется своим путем: у меня в душе — тихо и таинственно, между других народов — размашисто и нахрапом. Она преображается, и уже преобразилась так, как я и думать не думал, совершенно не в том направлении, какое я предвидел.
Это старая книга. Она из тех времен, когда континент этот был и скован, и напряжен одновременно. Из времен моей наивности, моего невежества, моих намерений развеять все тайны. Из времен, когда взбудораженная, перевозбужденная Япония говорила о войне, пела о войне, обещала войну, выступала, вопила, горланила, угрожала, не давала спокойно жить и приберегала про запас бомбардировки, высадки, разрушения, вторжения, нападения и террор.
Из тех времен, когда затравленный, колеблющийся Китай под угрозой разделения уже не владел собой, насторожился, замкнулся и его разрушенная цивилизация не могла больше противостоять неотвратимым катаклизмам — не помогали ни хитрость, ни многочисленность народа, ни вековой опыт.
Из тех времен, когда Индия неумело, с помощью необычных средств, внешне схожих с проявлением слабости, пыталась заставить могучий народ, державший ее в подчинении, ослабить хватку.
Когда я приехал в те края в 31-м году, без особых познаний, хоть меня и сбивали с толку засевшие в памяти свидетельства педантов, я увидел обычных людей с улицы. Они привлекли меня, захватили полностью, и я уже не обращал внимания ни на что, кроме них. Я привязался к ним, следовал за ними повсюду: куда они, туда и я, надеясь, что люди с улицы — прежде всего они, но еще и флейтист, и актер из театра, и танцор, и какой-то тип с бурной жестикуляцией помогут мне во всем разобраться… или почти во всем.
Вместе с ними, отталкиваясь от них, я и размышлял, стараясь пройти вспять по пути истории.
С тех пор прошло много лет и люди с улицы стали другими. Они изменились: в какой-то из этих стран не так уж и заметно, в другой — сильно, в третьей — сильнее не бывает, а в четвертой — невероятно, до неузнаваемости, так что не узнают ни те, кто побывал там в прежние времена, ни даже те, кто там жил.