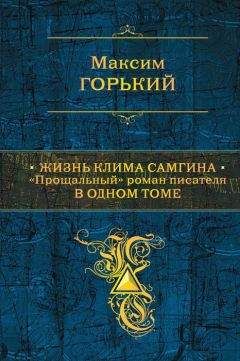– Ты ужасно сочиняешь, – сказал Самгин.
– А ты – плохо видишь, очки мешают! И ведь уже поверил, сукин сын, что он – вождь! Нет, это... замечательно! Может командовать, бить может всякого, – а?
Самгин, слушая, соображал:
«Видит то же, что вижу я, но – по-другому. Конечно, это он искажает действительность, а не я. Влюбился в кокотку, – характерно для него. Выдуманная любовь, и все в нем – выдумано».
А Лютов говорил с какой-то нелепой радостью:
– Не разобрались еще, не понимают – кого бить? Вошли Алина и Дуняша. У Алины лицо было все такое же окостеневшее, только еще более похудело; из-под нахмуренных бровей глаза смотрели виновато. Дуняша принесла какие-то пакеты и, положив их на стол, села к самовару. Алина подошла к Лютову и, гладя его редкие волосы, спросила тихо:
– Побили тебя?
– Ну, что ты! Пустяки, – звонко вскричал он, сгибаясь, целуя ее руку.
– Ах ты, дурачок мой, – сказала она; вздохнув, прибавила: – Умненький, – и села рядом с Дуняшей.
А Лютов неестественно, всем телом, зашевелился, точно под платьем его, по спине и плечам, мыши пробежали. Самгину эта сценка показалась противной, и в нем снова, но еще сильнее вспыхнула злость на Алину, растеклась на всех в этой тесной, неряшливой, скудно освещенной двумя огоньками свеч, комнате.
Неприятна была и Дуняша, она гибким и усмешливым голосом рассказывала:
– Благоверный мой в Петербург понесся жаловаться на революцию, уговаривать, чтобы прекратили.
Появился Макаров, раскуривая папироску, вслед за ним шагнул и остановился кудрявый парень с завязанным глазом; Алина сказала, протянув ему руку:
– Пожалуйста...
Он поклонился, не приняв ее руки:
– Александр Судаков...
– Лесоторговец есть такой! – вскричал Лютов почему-то с радостью.
– Дядя мой, – не сразу ответил Судаков.
– Д-дядя? – недоверчиво спросил Лютов.
– Родной. Не похоже?
Судаков сел к столу против женщин, глаз у него был большой, зеленоватый и недобрый, шея, оттененная черным воротом наглухо застегнутой тужурки, была как-то слишком бела. Стакан чаю, подвинутый к нему Алиной, он взял левой рукой.
– Левша? – спросил Лютов, присматриваясь к нему.
– Ушиб правую...
Самгин внимательно наблюдал, сидя в углу на кушетке и пережевывая хлеб с ветчиной. Он видел, что Макаров ведет себя, как хозяин в доме, взял с рояля свечу, зажег ее, спросил у Дуняши бумаги и чернил и ушел с нею. Алина, покашливая, глубоко вздыхала, как будто поднимала и не могла поднять какие-то тяжести. Поставив локти на стол, опираясь скулами на ладони, она спрашивала Судакова:
– Как это вы решились?
Судаков наклонился над стаканом, размешивая чай, и не ответил; но она настойчиво дополнила вопрос:
– Один против всех?
– Да чего ж тут решать? – угрюмо сказал Судаков, встряхнув головой, так что половина волос, не связанная платком, высоко вскинулась. – Мне всегда хочется бить людей.
– За что? – вскричал Лютов, разгораясь.
– За глупость. За подлость.
«Рисуется, – оценивал Самгин. – Чувствует себя героем. Конечно – бабник. Сутенер, «кот», вероятно».
А Судаков, в два глотка проглотив чай, вызывающе заговорил, глядя поверх головы Алины и тяжело двигая распухшей нижней губой:
– Драку в заслугу не ставьте мне, на другое-то я не способен...
– Вы – что же? – усмехаясь, спросил Лютов. – Против господ?
Не взглянув на него, Судаков сказал:
– Я – не крестьянин, господа мне ничего худого не сделали, если вы под господами понимаете помещиков. А вот купцы, – купцов я бы уничтожил. Это – с удовольствием!
На минуту все замолчали, а Самгин тихонько засмеялся и заставил Судакова взглянуть на него воспаленным глазом.
– Вы где учились? – тихо спросила Алина, присматриваясь к нему.
– В коммерческом. Не кончил, был взят дядей в приказчики, на лесной двор. Растратил деньги, рублей шестьсот. Ездил лихачом. Два раза судился за буйство.
Говорил Судаков вызывающим тоном и все время мял, ломал пальцами левой руки корку хлеба.
– Так что я вам – не компания, – закончил он и встал, шумно отодвинув стул. – Вы, господа, дайте мне... несколько рублей, я уйду...
Лютов тотчас сунул руку за пазуху. Алина сказала:
– Посидите с нами. Сколько вам лет?
– Двадцать,
Приняв деньги Лютова, он не поблагодарил его, но, когда пришел Макаров и протянул ему рецепт, покосился на бумажку и сказал:
– Спасибо. Не надо, обойдется и так. Самгин тоже простился и быстро вышел, в расчете, что с этим парнем безопаснее идти. На улице в темноте играл ветер, и, подгоняемый его толчками, Самгин быстро догнал Судакова, – тот шел не торопясь, спрятав одну руку за пазуху, а другую в карман брюк, шел быстро и пытался свистеть, но свистел плохо, – должно быть, мешала разбитая губа.
– Вы – революционер? – вдруг и неприятно громко спросил он, заставив Клима оглянуть узкий кривой переулок и ответить не сразу, вполголоса, докторально:
– Кого считаете вы революционером? Это – понятие растяжимое, особенно у нас, русских.
– А я думал, – когда вы, там, засмеялись после того, как я про купцов сказал, – вот этот, наверное, революционер!
– Разумеется, я...
Но Судаков, не слушая, бормотал:
– Прячетесь, чорт вас возьми! На похоронах Баумана за сыщика приняли меня. Осторожны очень. Какие теперь сыщики?
Он вдруг остановился, точно наткнувшись на что-то, и сказал:
– Ну, – прощай, Митюха, а то – дам в ухо!..
«Негодяй, – возмущенно думал Самгин, торопливо шагая и прислушиваясь, не идет ли парень за ним. – Типичнейший хулиган».
Но в проулке было отвратительно тихо, только ветер шаркал по земле, по железу крыш, и этот шаркающий звук хорошо объяснял пустынность переулка, – людей замело в дома.
Согнувшись, Самгин почти бежал, и ему казалось, что все в нем дрожит, даже мысли дрожат.
Он с разбега приткнулся в углубление ворот, – из-за угла поспешно вышли четверо, и один из них ворчал:
– Крестный ход со всех церквей – вот бы что надо. Маленький круглый человечек, проходя мимо Самгина, сказал:
– Духовенство, конечно, могло бы роль сыграть.
– Рассчитывает, чей кусок жирнее...
Когда слова стали невнятны, Самгин пошел дальше, шагая быстро, но стараясь топать не очень шумно. Кое-где у ворот стояли обыватели, и от каждой группы ветер отрывал тревожные слова.
– Николка Баранов рабочих вооружает.
– Какой Баранов?
– Асафа сын.
– Басни!
– Вот, кабы Охотный ряд...
В другой группе кто-то уверенно говорил:
– Поджигать начнут, увидите! А со скамьи бульвара доносился веселый утешающий голосок:
– Да бро-осьте! Когда ж Москва бунтовала? Против ее – действительно, а она – никогда!
– А – студенты?
– Ну, нашел бунтарей!
– Вы куда, бабы?
– Во-первых – девицы!
– Ах, извините! Куда же?
– Поглядеть, как булочники баррикаду строят...
– Ну, это – не забава!..
Но, несмотря на голоса из темноты, огромный город все-таки вызывал впечатление пустого, онемевшего. Окна ослепли, ворота закрыты, заперты, переулки стали более узкими и запутанными. Чутко настроенный слух ловил далекие щелчки выстрелов, хотя Самгин понимал, что они звучат только в памяти. Брякнула щеколда калитки. Самгин приостановился. Впереди его знакомый голос сказал:
– Как поведут себя питерцы...
Калитка шумно хлопнула, человек перешел на другую сторону улицы.
«Поярков», – признал Клим, входя в свою улицу. Она встретила его шумом работы, таким же, какой он слышал вчера. Самгин пошел тише, пропуская в памяти своей жильцов этой улицы, соображая: кто из них может строить баррикаду? Из-за угла вышел студент, племянник акушерки, которая раньше жила в доме Варвары, а теперь – рядом с ним.
– А, это вы, – сказал студент. – Солдат или полиции нет на бульваре?
Самгин отрицательно мотнул головой, прислушиваясь. В глубине улицы кто-то командовал:
– Поперек кладите! Круче!
– Баррикада? – спросил Самгин.
– Две, – сказал студент, скрываясь за углом. Самгин подошел к столбу фонаря, прислонился к нему и стал смотреть на работу. В улице было темно, как в печной трубе, и казалось, что темноту создает возня двух или трех десятков людей. Гулко крякая, кто-то бил по булыжнику мостовой ломом, и, должно быть, именно его уговаривал мягкий басок:
– Довольно! Довольно, товарищ!
Улицу перегораживала черная куча людей; за углом в переулке тоже работали, катили по мостовой что-то тяжелое. Окна всех домов закрыты ставнями и окна дома Варвары – тоже, но оба полотнища ворот – настежь. Всхрапывала пила, мягкие тяжести шлепались на землю. Голоса людей звучали не очень громко, но весело, – веселость эта казалась неуместной и фальшивой. Неугомонно и самодовольно звенел тенористый голосок: