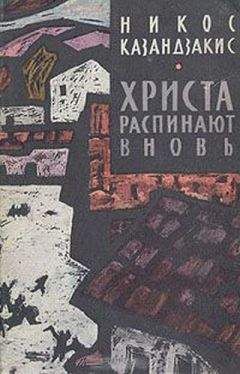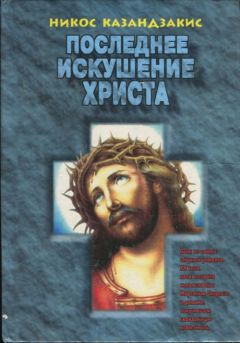Направо от аги с трубою в руке стоит сеиз[4] — громадный свирепый уроженец Востока, косоглазый, с отвратительной рожей; налево, скрестив ноги, восседает на бархатной подушке смазливый, упитанный турчонок, который время от времени разжигает трубку аги и беспрерывно подливает раки в его чашку.
Полузакрыв осоловелые глаза, ага мысленно славит всевышнего: аллах прекрасно сотворил этот мир, все в нем предусмотрел: захочешь есть — перед тобою и хлеб, и мясо, зажаренное докрасна, и плов с корицей; захочешь пить — перед тобою вода бессмертия — раки; спать захочешь или отдохнуть — аллахом сотворен для тебя сон; разгневался — созданы аллахом кнут и спины райи[5]; пожелаешь развлечься — можешь послушать амане[6]; ну, а если возжаждешь забвения печали своей и мук мира сего — создан аллахом Юсуфчик.
— Великий мастер аллах, — взволнованно бормочет ага, — великий мастер! Умная у него голова! Как это ему пришло в голову — сотворить раки и Юсуфчика.
От прилива религиозного чувства и чрезмерного опьянения глаза аги наполняются слезами. Со своей веранды он поглядывает вниз и с удовлетворением созерцает райю, разгуливающую по площади; люди чисто выбриты, по-праздничному разодеты, подпоясаны широкими красными кушаками, на всех свежевыстиранные короткие штаны и голубые куртки. У одних на головах фески, у других — тюрбаны, третьи красуются в мерлушковых шапках. За ухом у самых бравых — цветок базилика или сигаретка.
Третий день пасхи. Кончилась обедня. Сладостный, теплый денек; то проглядывает солнышко, то моросит мелкий дождик; благоухают цветы лимонного дерева, распускаются почки на других деревьях, оживает трава, Христос возрождается в каждом комке земли. Бродят христиане по площади, встречаются друзья, обнимаются, восклицают: «Христос воскрес!» И потом направляются в кофейню Костандиса или усаживаются под большим платаном посреди площади, заказывают наргиле[7] и кофе — и начинается приятная беседа, такая же бесконечная, как этот мелкий дождик.
— Вот так, наверно, и в раю, — говорит церковный служка Хараламбос, — нежное солнце, мелкий дождик, цветущие лимонные деревья, наргиле и долгие задушевные разговоры.
На другом краю площади, за платаном, высится заново выбеленная сельская церковь «Христова распятия» с красивой колокольней. По случаю пасхи церковные врата украшены ветвями вербы и лавра. Вокруг церкви — сельские лавчонки и мастерские: например, мастерская седельщика Панайотароса, прозванного Гипсоедом. Так его прозвали потому, что однажды он съел привезенную кем-то в село гипсовую статуэтку Наполеона; потом привезли статуэтку Кемаля-паши[8],— он и ее съел; наконец, привезли статуэтку Венизелоса[9] — и она была съедена. Около седельной мастерской — парикмахерская Адониса. Над дверью ее приколочена вывеска, огромные буквы которой, красные как кровь, гласят: «Здесь удаляют и зубы». Немного подальше — мясная лавка хромого Димитроса с вывеской: «Свежие головки. Иродиада»[10]. Каждую субботу режет Димитрос теленка, а перед тем как зарезать его, золотит ему рога, украшает ему шею алыми лентами и, ковыляя, водит его по всему селу, расхваливая достоинства своей жертвы. И, наконец, замечательная кофейня Костандиса, длинная, узкая и прохладная, где так хорошо пахнет кофе и табаком, а в зимнюю пору — шалфеем. На правой стене висят — гордость всего села — три большие блестящие литографии: по одну сторону — полуголая святая Женевьева[11] в тропическом лесу; по другую сторону — королева Виктория[12], голубоглазая, дородная, с пышной грудью кормилицы; а посредине — Кемаль-паша, грозный, с сердитыми серыми глазами, в высокой мерлушковой шапке.
Все те, кто гуляет по площади или сидит в заведении Костандиса, люди порядочные, работящие, хорошие хозяева. И село у них богатое, и ага у них — человек отличный, большой любитель раки и крепких духов — мускуса и пачулей. Любит он и упитанного турчонка, сидящего слева от него на бархатной подушке. Ага посматривает на христиан, как пастух на своих хорошо откормленных овец, и радуется. «Отличные они люди, — думает он, — вот и в этом году наполнили мои погреба пасхальными дарами — головками сыра, сладкими пирогами с кунжутом, чуреками, крашеными яйцами… А кто-то из них, дай ему аллах здоровья, принес и сосуд с хиосской мастикой[13] — это для моего Юсуфчика, чтобы он жевал ее, чтобы благоухал его ротик…»
Так размышляет ага и ласково поглядывает на толстого мальчугана, жующего мастику и равнодушного ко всему, что творится вокруг.
Все это — блаженные мысли о погребах, наполненных всяким добром, мелкий, тихий дождик, поблескивающие камни мостовой, пенье петухов, Юсуфчик, пристроившийся у его ног и жующий с причмокиванием мастику, — все это наполнило сердце аги такой радостью, что он почувствовал себя совсем счастливым. Он поднял голову и попробовал было запеть амане, но тут же его одолела лень.
Тогда он повернулся к сеизу и подал ему знак протрубить, чтобы народ внизу не шумел. Потом повернулся налево: «Спой мне, Юсуфчик, да будет с тобой мое благословение, спой мне „Дунья табир, руйа табир, аман, аман“. Спой мне, а то я с ума сойду!»
Упитанный мальчуган не торопясь извлекает изо рта мастику, приклеивает ее к своему голому колену, подпирает правой рукой щеку и начинает петь амане, столь любимое агой: «Жизнь и сон — одно и то же, увы, увы!»
Голос его, страстный и кокетливый, то взлетает, то опускается, подобно воркованию голубки… Ага закрыл глаза и так увлекся песней, что, слушая ее, забыл даже о раки.
— Ага в хорошем настроении, — прошептал Костандис, подавая кофе. — Да живет раки!
— Да живет Юсуфчик! — сказал, горько улыбаясь, Яннакос, бродячий торговец и сельский письмоносец с белоснежной, коротко остриженной бородой и зоркими, птичьими глазами.
— Да живет слепая судьба, сделавшая его агой, а нас — райей, — пробормотал брат местного попа, Хаджи-Николис, сельский учитель, худощавый человек в очках, с большим острым кадыком, который дергался вверх-вниз, когда он говорил.
Он разгорячился, вспомнив своих предков, и вздохнул:
— Было время, когда эти земли принадлежали нам, эллинам, но колесо истории повернулось, и пришли византийцы, тоже эллины и христиане, а потом снова повернулось колесо, и нахлынули неверные… Но ведь Христос воскрес, братья, воскреснет и наша отчизна! Ну-ка, Костандис, угощай молодцов!
Тем временем песня кончилась, турчонок засунул в рот мастику и опять принялся жевать ее, по-прежнему равнодушный ко всему окружающему. Снова протрубил трубач. Теперь райя могла горланить и смеяться вволю.
В дверях кофейни показался капитан Фуртунас, один из пяти старост села. Старый судовладелец, он немало лет провел на Черном море, перевозил русскую пшеницу, занимался и контрабандой. Был он высок, плечист и слегка сутуловат; на его безбородом лице оливкового цвета, изрытом глубокими морщинами, выделялись черные как смоль, искристые глаза. Постарел он, постарело и его судно, и однажды ночью разбилось оно неподалеку от Трапезунда. Потерпев кораблекрушение, капитан Фуртунас почувствовал, что уже достаточно повидал на своем веку, и возвратился в родное село, чтобы попить вволю раки, а когда настанет смертный час — отвернуться лицом к стене и распрощаться с миром.
Многое повидал он на своем веку, но все наконец наскучило; вернее, не наскучило, а просто он устал, только совестно ему было в этом признаться.
Сегодня он красовался в желтом плаще и в высоких капитанских сапогах, на его голове высилась дорогая архонтская шапка из настоящей астраханской мерлушки. В руке он держал длинную палку, как и подобало старосте. Некоторые из односельчан поднялись, приглашая его выпить чашку раки.
— Нет у меня свободного времени, ребята, нет даже для раки, — сказал он. — Христос воскрес! Тороплюсь я к попу, там у нас, у старост, сегодня сбор. Через час приходите и вы, те, кто приглашен. Похристосуйтесь и приходите, вы же хорошо знаете, что у нас сегодня серьезное дело. Только пусть кто-нибудь из вас сходит за Панайотаросом, седельщиком с бородой черта. Он нам очень нужен.
Он помолчал минуту, потом хитро подмигнул.
— Если его нет дома, то наверняка найдете его у вдовы, — сказал он, и все громко засмеялись.
Но старик Христофис, возчик, познавший в молодости любовную страсть и до сих пор помнивший, как дорого она ему обошлась, вскочил с места.
— Что вы смеетесь, бездельники? — закричал он. — Правильно делает! Живи, Панайотарос, и не слушай их! Жизнь коротка, а смерть уносит навеки!
Мясник Димитрос, колченогий толстяк, покачал бритой головой:
— Бог да охранит вдову нашу, Катерину! Сатана знает, как спасти нас от распутства!