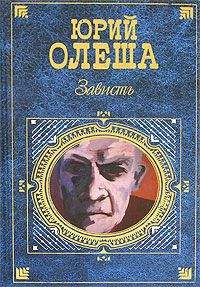Село жило своей жизнью. Оно, может быть, и не знало, что Одесса осаждена. Тут жили сонные, огромные, страшные люди, которых звали Фридрих, Бруно, Юстус, Бруно, Фридрих, Юстус. Они подходили к окнам и смотрели на нас, не стесняясь, перешептывались, толкали друг друга локтями. Где-то за мной в глубине комнаты лежит мама со своей дамской прической, где-то лежит папа.
А потом зато вечер! О, вечер был такой чудесный! Такой чудесный был вечер! Такой чудесный!
Они посадили меня на молодого жеребца с дурным характером. Этих двух мальчишек смешило, что у меня ничего не получается из верховой езды. Они хотели, чтобы я упал, чтобы лошадь сбросила меня, понеся, и чтобы я просто убился насмерть. Из всей езды моей на этом жеребце я помню только выбегающую буквально у меня из рук длинную узкую шею животного… Я съезжал то на один, то на другой бок. Седла не было, я сидел на остром хребте, причем страдал и оттого, что причиняю коню боль.
Два мальчика, один повыше, другой пониже – карапузик, но храбрый и мужественный, на лестнице героизма стоящий выше меня на много ступеней, бежали за мной, бежали по бокам, бежали впереди, ожидая, когда я свалюсь.
Жеребец понесся в сторону табуна. Табун виднелся мне в виде волнистой тени на горизонте. Ясно, он в конце концов сбросит меня. Я держусь, но не пора ли самому бежать с этого тела – чужого, ненавидящего меня, чувствующего мою слабость тела?
Как-то мне удалось сойти. Я сошел. Он тотчас же гордо отпрянул от меня, хлестнув меня освободившимися поводьями, и унесся, разбрасывая землю, сверкая вдруг золотым крупом… Мальчики хохотали, мне было стыдно – я был не воин, не мужчина, трус, мыслитель, добряк, старик, дерьмо… Вот тогда, в этот закатный час в степи под Вознесенском, и определился навсегда мой характер.
Вспоминаются матрос Грос, 1905 год, пожар порта, Каульбарс, поездка в Мангейм, директор гимназии, футбол; разные ходившие в парке насекомые (некоторые прикрывались буквально щитами, изнемогая под их тяжестью), морские офицеры с крестообразными черно-золотыми кортиками, гулявшие с дамами в бело-пенных шляпах, маэстро Давингоф, дирижировавший оркестром в кафе на бульваре, сидя верхом на белой лошади.
Вспоминаются лиловые цветы – маленькие лиловые кипарисы, названия которых я так никогда и не узнал, спускавшиеся от меня направо по откосу вниз к лугу, пока я, и папа, и еще кто-то третий шли к Аркадии куда-то не то в больницу к кому-то, не то в частный дом, который оказался весь наполнен солнцем и стоящими поперек стеклянными дверями.
Я слышал звук взрыва бомбы, которую бросил анархист в кафе Дитмана в Одессе, в 1905 году. Все испуганно переглянулись в это мгновение: я, бабушка, папа, мама, сестра, знакомый, знакомая. Звук, сперва быстро взлетевший кверху, потом как бы стал оседать и расширяться. Все это, правда, в одну десятую долю секунды.
Все спутано в воспоминаниях о той эпохе. Городовой зарубил саблей офицера в театре. Хоронят офицера с венками, на которых надпись: «За что?»
Убили пристава Панасюка. Идет дождь. Погром. Сперва весть о нем. Весть ползет. Погром, погром… Что это – погром? Погром, погром… Затем женщина, дама, наша соседка, вбегает в гостиную и просит спрятать ее семейство у нас.
Велят вешать, если за дверью христиане, икону на двери. Утром я вижу в Театральном переулке над входом в какой-то лабаз комнатную икону – между карнизом окна второго этажа и балкой над дверью. Сыро и пасмурно после дождя.
Однажды, выйдя на железный балкон, куда выходил наш «черный ход», и посмотрев в сторону двора, я увидел идущим через двор по направлению к нашей лестнице откуда-то возвращающегося папу.
Он, которого я привык видеть с усами, был теперь без них – он обрил усы. Лицо его показалось мне толстым, мясистым – красное, мясистое лицо под соломенным канотье!
Это была сенсация – Карл Антоныч сбрил усы!
Долго обсуждалось это обстоятельство – семьей, соседями, всем двором, приходившими в гости знакомыми. Папа и сам почти не отрывал лица от зеркала, а когда мы, дети, обступали его, надувал щеки, строил рожи, чтобы сделать себя еще более смешным.
Золотое детство! Уж такое ли оно было золотое? А близость к еще недавнему небытию? А беззащитность перед корью, скарлатиной? А необходимость учиться, ходить в гимназию, знать уроки? А кашель, к которому все прислушивались? А отвращение к некоторым видам пищи, которые как раз и нужно было есть? Например, яйца. О, я однажды увидел под стеной разбитое яйцо, из которого вытек некий призрак птенца… Мог ли я после этого есть яйца?
Они продавались в так называемых табачных лавках, где продавались еще и марки, и гимназические тетрадки. Ракета стоила, кажется мне, рубль. По виду это была синяя трубка, насаженная на щепочку вроде тех, какими подпирают цветы. Этой щепочкой снаряд вкапывался в грунт… Имелся фитиль – черный скрюченный хвостик, торчавший из донышка трубки. Чтобы запустить ракету, его-то и поджигали, но я никогда не видел, как это делается, я видел только праздник, только пожар, ликование, только павлиньи хвосты, я слышал только пальбу и только свист уносящейся кверху ракеты, свист в полной тишине синей бархатной ночи, свист, терявшийся в вышине некоей высоко взлетевшей светящейся точки… Только это, только их волшебство знал я о ракетах, а самой ракеты я никогда не держал в руках.
Табачная лавка находилась тут же, при выходе из дома, налево от ворот. Хозяин ее был Исаак.
– Пойдите к Исааку.
Или:
– А у Исаака нет?
На вывеске у Исаака было написано огромными, величиной в стул, буквами только одно слово: «Табак». Это были стандартные вывески для всех лавок такого рода – вероятно, по образцу недалекой от Одессы Турции, – я бы сказал, вывески довольно красивые.
Исаак стоял за сравнительно высокой узкой конторкой и, открыв крышку, вынимал марки. Марки хранились бережно – это было что-то вроде денег, валюты. Маленькое синее изображение царя. Стоила марка семь копеек. Ребенка часто посылали за марками. Как хорошо и долго я помнил эту цену, помнил именно эту цену – семь копеек. Вот и теперь помню.
Исаак был круглолицый, с шелковистой молодой бородкой, приветливый. Магазин у него был маленький – собственно, лавочка, табачная лавочка, – однако чистый, поблескивающий лакированным деревом прилавка и конторки; верно, входя сюда, можно было тотчас же почувствовать, как Исаак и его жена Маня любят свою лавку и хотят, чтобы покупателям нравилось бывать в ней.
Детское воспоминание сохранило Маню.
Маня была тоже молодая, томная, с беспорядочными, но нарядными волосами и говорила с еврейским распевом – ласковым и почти в каждой фразе заканчивавшимся вопросительной нотой.
– А-а? Арифметическую? Нет, в линейку-у?
Хотя лавка называлась табачной, но в ней, как всегда в ту эпоху, кроме всего, что относилось к курению, продавались тетрадки, марки, письменные принадлежности, листы разноцветной глянцевой бумаги для письменных столов, переводные картинки.
Это все, конечно, кроме табачных изделий. Табачные изделия – это были папиросы, коробки с табаком, гильзы. Самое удивительное то, что в табачной лавке можно было купить также и ракету.
– Исаак, – спросил я однажды, – у вас продаются и ракеты?
Хотя я был мальчик, но я, как и все вокруг, называл Исаака по имени.
– Есть римские свечи, – сказал Исаак. – Ракета стоит один рубль, это римская свеча.
Как я вздрогнул, когда услышал это название! Почему именно свеча? Почему римская?
– Это какие?
– Откуда мы знаем какие-е? – отозвалась Маня. – Тебе подарили на именины пять рубле-ей, а ты хочешь на ракеты-ы? Исаак, ты слыша-ал, ему бабушка подарила пять рубле-ей?
Весь двор знает, что мне бабушка подарила пять рублей. В парикмахерской, куда меня послали постричься, я по требованию Жоржа, хозяина, даже раскрыл портмоне, которое мне тоже подарила бабушка, и вынул из него золотую монету, показал всем, чтобы увидели все присутствующие.
Я шагнул через ступеньку на другую (всего их было две) и вошел в магазин. Что он ярко освещен, я понимал еще на улице, приближаясь к крыльцу, так как его окна и дверь виднелись на довольно большом расстоянии в виде желтых световых, преграждающих мне путь плоскостей. Войдя, я по-настоящему оценил качество освещения: магазин, казалось, просто моется в свете. Правда, он вдруг начинал казаться ванной, все продававшееся в нем можно было принять за то, что плавает в еще не тронутой воде ванны: мыло, мочалку, игрушку… Тем не менее это был магазин гастрономический.
Покупать в этом магазине называлось «покупать у немца».
Мне было запрещено выходить во двор.
– Он играет с мальчишками.
Я был сын того, кого называли барином и кому городовой отдавал честь. Правда, отец был бедный человек, тем не менее барин. Мне нельзя было играть с детьми не нашего, как тогда говорили, круга – с мальчишками.