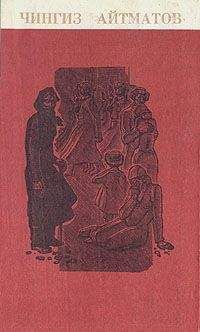Байдалы, муж соседки Тотой, всю жизнь был поливальщиком. По вечерам, возвращаясь с работы, можно было видеть его на поливе. Размашисто, уверенно вышагивал он по полю, направляя воду в арыки.
Темно-густым багрянцем полыхало зарево по верхам клевера, и при каждом взмахе ослепительно ярко блестел в руках Байдалы отполированный землей зеркальный кетмень.
«Умеет беречь воду, рука у него золотая!» — говорили о нем в аиле. Он раскатисто хохотал, когда женщины, подоткнув платья и держась за руки, переходили через бурлящий полноводный арык:
— Э-эй, что вы там? Боитесь, вода утащит? Все равно в мои руки попадете. Не упущу!
— Чтоб твои арыки размыло, черт ненасытный! Чтоб тебе водой захлебнуться! — крикливо отвечали ему женщины-сверстницы.
А он, очень довольный, продолжал хохотать все так же раскатисто.
Потом оглянешься и видишь: в надвигающихся сумерках идет Байдалы по полю, рослый, с покатыми сильными плечами, идет как странствующий добрый богатырь. Он идет через все поле, примечая огрехи, и удаляется все дальше и дальше…
Иной раз, забежав к соседям, Сейде заставала такую сцену. Тотой, недовольная чем-то, поджав губы, ожесточенно гремела скребнем по дну казана, а Байдалы мастерил ребятам игрушки и говорил спокойно:
— Зря ты ругаешься, байбиче. Живем не хуже других… Ну-ка, поди, в каждой ли семье по три сына? Ты мне их родила, а другого богатства мне не надо… Вот они, мои богоданные молодцы!
С фронта Байдалы часто писал домой, а с осени писем не стало… Не было писем и от Исмаила. Как мы видели, почтальон Курман, проезжая мимо, приударял гнедка каблуками и норовил проскочить незаметно. Не мог он явиться с пустыми руками! Он испытывал чувство вины, как если бы должен был вернуть долг, а денег у него не было. Зато Мырзакул, председатель сельсове-та, стал наезжать чаще. Уж одно это пугало Сейде до смерти. Может быть, Мырзакул подозревает и хочет выследить Исмаила? Однако по его виду ничего пока не заметно. Откуда Мырзакулу знать? До сих пор о побеге Исмаила не знает ни одна душа в аиле. Исмаил очень осторожен.
— Сейде, времена смутные, народ ненадежный, смотри, чтоб никому ни слова! — предупреждает он каждый раз. — Если даже отец мой подымется из могилы, и ему не доверяй! Слышишь?
Проезжая по аилу, Мырзакул мимоходом заглядывает к ним как бы по делу. До ухода в армию он был молодой джигит. Черный каракулевый тебетей носил лихо, набекрень. Любил скачки и никогда не расставался с комузом[19]. В аиле его считали лучшим певцом; сам слагал песни. Вернулся с фронта без одной руки — не узнать его теперь, совсем не тот. И характером не тот: вспыльчивый, крутой. Похож на дерево, искалеченное бурей: левое плечо опустилось вниз, шея вытянулась, на ней задубели шрамы, резче обозначились крупные неправильные черты лица, взгляд хмурый, цепкий. Теперь Мырзакул поет больше о том, что видел на фронте: то приглушен-но, сурово, то с гневной страстью звенит его голос, а когда Мырзакул забывается, то глаза его сверкают, как у сказочных батыров, и он встряхивает единственной рукой, будто бьет по струнам комуза. Но теперь уж ему никогда не играть на комузе…
Обычно Мырзакул въезжает во двор к Тотой.
— Э-эй, Тотой, где вы там? Живы? — Потом заглядывая со стремян через высокий дувал, издали окликает Сейде: — Здоров ли твой малыш, Сейде?.. Сверни мне цигарку из табака, что у тебя припрятан дома. Да иди сюда, к соседке… Дело есть… Потом управишься…
Мырзакул никогда не спрашивал, получают ли они письма от мужей. Не хотел лишний раз расстраивать женщин, да к тому же он всегда сам просматривал аильную почту и знал все дела аила. И все же всякий раз, встречаясь с ним, Сейде волновалась. Ей казалось подозрительным, почему он не спрашивает, есть ли письма от Исмаила. Значит, что-то знает. Значит, это неспроста…
Свернув цигарку из табака, который она припасла еще летом на плантации, Сейде раскуривает ее и идет к соседке, изо всех сил стараясь подавить в себе нарастающий страх. Мырзакул, завидя ее, слезает с лошади и с, наслаждением затягиваясь дымом, заводит безразличную речь: о том да о сем…
— Хороший табак припасла, Сейде! — похвалил он ее однажды. — Пошли Исмаилу в посылке, пусть покурит. Вспомнится ему наш Талас. Ведь такого табака, как у нас, нигде нет.
— Пошлю, — с трудом выговорила Сейде. Надо бы еще что-нибудь сказать, но ничего не приходило на ум. Ей показалось даже, что Мырзакул угадал по лицу, как мечутся ее мысли, и от этого еще больше покраснела. Она притворно закашлялась:— Фу, какой горький дым, горло дерет… И что в нем хорошего?..
Сказала как-будто к месту, но всю ночь терзалась: не выдала ли себя? «Пронеси бог и на этот раз. Нельзя, нельзя мне краснеть и голос надо сдерживать! Неужели он заметил? Сама виновата, смелости мне недостает, — ругала она себя. — А для чего это он сказал о посылке? Попросту или с умыслом?..»
В другой раз Мырзакул осмотрел деревья, высаженные на огороде Тотой вдоль арыка, и упрекнул ее:
— Байдаке каждую осень обрубал сучья и ветки, а в этом году вы этого не сделали… Старший-то твой уже работник… Обрубить надо ветки, а то деревья перестанут расти. Да и лишние дрова пригодятся…
Тотой с досадой глянула на Мырзакула, тяжело вздохнула:
— А если и перестанут расти, плакать не стану: кому они нужны! Разве дерево — опора человеку?.. Если самого нет дома, ничего не мило… Поди-ка попробуй: и в колхозе работай, и колосья собирай, и детей корми… Вот и живем две соседки — ни слуха, ни весточки от наших, живы или мертвы, бог их знает! — Она отвернулась, прикусив губу. — А ты еще тут про деревья толкуешь…
Сейде оробела, сжалась, боясь, что Мырзакул сейчас выложит всю правду. «А ты не равняй себя с ней, — скажет Мырзакул, — ее Исмаил давно уже прячется. Здесь он, беглец!.. Да, это казалось неотвратимым в ту минуту. Но Мырзакул сказал другое.
— А ты знаешь, Тотой, может не только деревья, но и тень их пригодится, — спокойно произнес он и вдруг вспылил, закричал, будто давно собирался высказать им все это в глаза: — Вы бросьте эти свои бабьи хныканья! Как чуть задержка с письмами, так они уж голосить готовы. Лучше вон переберите бодылья на крыше — навалили кучей не знай как, сгниет корм до весны! Хочешь, чтобы дети без молока остались? Да я вам за это головы поотрываю! Если одной не под силу, кликни соседку, здесь двое вас, соседок… Вдвоем-то вы одного мужика стоите… Русские женщины в окопах с винтовками сидят, не хуже мужчин, сам видел… А вы у себя дома — ноете, что писем нет!..
Тотой промолчала, не возразила ни слова. А Сейде ответила неожиданно для себя:
— Мы сделаем, сегодня же ветки обрубим и бодылья перекладем!
Может быть, она сказала это слишком поспешно? Но сейчас у нее не было никакой задней мысли, она говорила искренне, ей хотелось отвести разговор о письмах и в то же время было стыдно за себя и Тотой. Мырзакул больше ничего не сказал. Все еще возбужденный и злой, он как-то странно, внимательно посмотрел на нее — кажется, с одобрением. Потом сел на лошадь и уехал.
В этот день, помогая Тотой по хозяйству, Сейде испытывала безотчетную, тихую радость, она успокоилась, будто искупила свою вину. Давно уже не было у нее такого ясного света в душе, такого подъема, когда все хочется сделать неприменно сегодня же, когда работа спорится в руках. Она задорно покрикивала на ребятишек Тотой: они не столько помогали, сколько мешали. Но это не сердило ее. Хотелось петь, хотелось смеяться. Но всякий раз, вспоминая поразивший ее непонятный взгляд Мырзакула, она вдруг обмирала вся, и руки у нее опускались.
«Почему он так поглядел на меня? Значит, что-то подозревает? А может быть, мне просто показалось?»
И так повелось: каждый раз, когда наведывался Мырзакул, смятение и страх охватывали Сейде. Все ждала, когда он спросит: «Где твой Исмаил? Куда ты его прячешь?..» И сердце билось так гулко, что она боялась, не услышал бы он.
Когда Мырзакул уезжал, Сейде бежала домой, хватала трясущимися руками ковш с ледяной водой, пила, захлебываясь, обливала себе грудь и только позже, утолив нестерпимую жажду, могла собраться с мыслями: «Нет, он не знает! — уверяла она себя. — Если бы он приезжал подсмотреть или испытать меня, разве бы я этого не заметила? Ведь он просто спросил, как мы живем, и уехал. А если бы подозревал… Все равно от меня он ничего не узнает. Пусть хоть тысячу раз выпытывает. Исмаила я не выдам — никогда! Другие вон слезно молят Бога: только бы муж вернулся, только бы живой! А разве мне не дорог мой муж, разве я не просила об этом Бога ради нашего сына! Бог вернул мне Исмаила, чтобы я сама оберегала его…»
С буранами и трескучими морозами подошла самая холодная пора зимы — чилде. Всю неделю не утихал ветер, сгонял снег в крутые, плотные сугробы. Тропинки, прокаленные морозом, звенели под ногами, как железо.
Опустел аил, приткнулся в затишке, дымя глиняными трубами, а над ним в мутной блеклой выси безмолвно стыли на ветру величавые вершины гор.