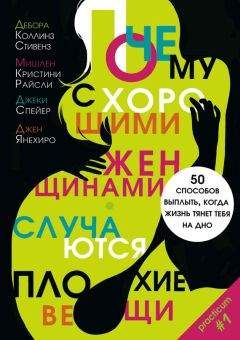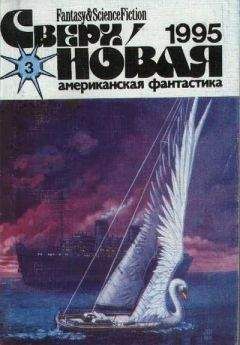ткань одежи у них такая, что деткам королевским подойдет. Богатые они — очень богатые, как есть.
Мак Канн поскреб себе подбородок большим пальцем.
— Думаешь, народ богатый?
— Еще как думаю.
— Раз так, — молвил отец задумчиво, — на том беседу и закончим.
Через миг заговорил вновь:
— Сама-то ты о чем размышляла?
— Размышляла я, — ответила она, — что, когда они проснутся чуть погодя, поесть им будет совсем нечего, а они пришлые.
— Хм! — сказал отец.
— Две холодные картошки в корзине, — продолжила она, — да краюшка хлеба, а больше ничего, а потому давай-ка ты поищешь вокруг чего съестного, чтоб не потчевать ребят срамотищей.
— Легко сказать! — воскликнул он. — Где искать-то? Лапшу предлагаешь с кочек снять да бекон по кустам собрать?
— Вчера вечером проходили мы мимо дома в миле отсюда, — сказала Мэри, — ступай туда и добудь там что сумеешь, а коли ничего не сумеешь, купи у тех, кто в доме живет. У меня в кармане три шиллинга, какие берегла я для кое-чего особенного, но дам их тебе, потому что не желаю срамиться перед пришлыми.
Отец принял деньги.
— Вот бы мне вчера знать, что они у тебя есть, — проворчал он. — Я б не улегся спать с глоткой, что, как канава посреди лета, полная пыли да гнуса.
Мэри подтолкнула его к дороге.
— Вертайся побыстрее да купи всякого-разного, чего на три шиллинга сможешь.
Посмотрела, как он грузно топает по дороге, а затем вернулась к их биваку.
Гости не пробудились.
Теперь уж делался воздух все яснее; первая мертвенная бледность рассвета сменилась здоровыми сумерками, свет накатывал, словно прозрачный дым над землей. Воздух на вид был хладен, остер, а не слякотен; деревья и кусты виднелись порознь, в этом студеном рассвете казались одинокими, незащищенными; представлялись живыми существами, замерзшими и слегка напуганными в бескрайности, которой были они чужими и где много чего было им страшиться.
Из всего противоестественного, если слово это применимо хоть в каких-то обстоятельствах, противоестественней всего тишина — и более всего устрашает она, ибо тишина значит больше себя самой — она означает еще и недвижимость: это образ и росчерк смерти, и никому не ведомо, что может возникнуть в этот же миг, ибо тишина не есть покой — она покою враг; против нее часовой ваш пусть лезет на башню и втуне вперяет взгляд; против нее пусть стоит ваш караульный, пусть пыряет он пикой стуки своего же сердца, пусть вызывает на бой сердце свое и слышит, как его же оружье грозит ему издалека.
Страшно это — идти по лесу, когда ни ветерка не колышет ветвей, не плещет листвой по сучьям; одинокое море, что простирается дальше взгляда и на коем нет ни единой волны, исполнено того же отчаяния, и сиротливый ужас исходит от травянистой равнины, где нет зримого глазу движенья.
Но на девушку все это не наводило жути. Не подчинялась она тишине, ибо не слушала ее; не подчинялась бескрайности, ибо ее не видела. Ей, в пространстве и тишине взращенной, они были приемными родителями, а глядела она или слушала лишь для того, чтобы увидеть или услышать нечто совсем иное. Сейчас она и слушала, и глядела. Слушала, как дышат спящие, и вскоре, ибо женского пола была, разглядела, какие они с виду.
Тихонько склонилась над одним. Благородный старец с привольной седой бородой и обширным лбом; выраженье его покойных черт — как у мудрого младенца; всем сердцем прониклась она к старику и улыбнулась ему в его сне.
Подошла ко второму и вновь склонилась. Был он моложе, но не юн — лет сорока; черты ровные и очень решительные; лицо с виду сильное и пригожее, словно вырезано из упорного камня; на подбородке угольно-черная борода.
Поворотилась она к третьему спящему и замерла, пунцовея. Это лицо запомнила она еще ночью, с одного молниеносного взгляда, когда ускользала при их приближении. Именно от него улизнула она во мглу и ради него волосами укутала плечи в непривычной красе.
Не дерзала она к нему приблизиться; боялась, что, если склонится, распахнет он глаза и на нее посмотрит, а она пока не могла выдержать этот взгляд. Знала: спи она сама, а он склонись над нею, она бы проснулась от прикосновения его взгляда — и устыдилась бы, и испугалась.
Не стала смотреть на него.
Вновь вернулась на свое место и принялась разводить в жаровне огонь, а покуда сидела, в рассвете послышалось пение голоса — не громкое, а очень нежное, очень сладкое. Не время птицам петь — слишком рано, и не узнала Мэри напев, хотя звук его восторгом наполнил ей все тело. Мягче и мягче, о Провидческий Голос! Неведома твоя мне речь, не знаю, какое счастье ты прочишь, о листве ль говоришь иль о гнезде, что дрожит высоко в косматой кроне, где подруга твоя качается и воркует сама себе. Качается и воркует, покоем обернута, и малые белые облака плывут мимо и не осыпаются.
Вот так невообразимым путем сочилась та песня, возвышался напев, и не постигала Мэри; но не птичий то был напев — это ее же сердце выводило смутную музыку, переливы таинства, неприученные стансы рассвета.
Разбудил их осел.
Ибо некоторое время катался он по земле в счастливом исступленье; вот беспокойные ноги его торчат в небо, а сам он чешет спину о камешки и комья ссохшейся глины; вот валяется плашмя, о те же комья чешет себе скулы. Вдруг встал, встряхнулся, взмахнул хвостом, мотнул мордой, оголил зубы, вперил взгляд в вечность и проревел «ии-аа» голосом такой внезапной силы, что не только спящие пробудились от грез своих, но и само солнце выскочило из-за горизонта и наставило на животное дикое око свое.
Мэри подбежала и стукнула осла по носу кулаком, но что б Мэри ни делала с ним, осел считал это ласкою и охотно ее сносил.
— Ии-аа, — торжествующе повторил он, уложил здоровенную башку ей на плечо и печально воззрился в пустоту.
Задумался он, а мысли всегда придают ослам скорбный вид, однако о чем он думал, не знала даже Мэри; глаза его затуманились размышлениями, и казался осел не менее мудрым и добрым, чем старейший из трех ангелов; и действительно, пусть и не холили его отродясь, хорош собою он был, ибо имел очертанья славного ослика: рыло и ноги белые, в остальном черен, а глаза карие. Вот какова была у того осла наружность.
Пробудились ото сна ангелы и едва ль