«Завтра, господа, утренние уроки отменяются, мы на похоронах».
На похоронах! Какое счастье! Кроме того, бывали еще крестины, свадьбы, приезд в школу его преосвященства, причащение больного. О, это предсмертное причастие! Как гордились те из нас, кто участвовал в перенесении св. чаши!.. Священник шел под красным бархатным балдахином, неся в руках чашу со св. дарами. Двое маленьких певчих поддерживали балдахин, двое других шли по обеим сторонам с большими золочеными фонарями в руках. Пятый шел впереди, размахивая трещоткой. Обычно это было моей обязанностью. По пути следования св. даров мужчины снимали шляпы, женщины крестились. Когда проходили мимо гауптвахты, часовой кричал: «Под ружье!» Солдаты сбегались и выстраивались. «На караул!» – командовал офицер… Ружья бряцали, барабаны били… Я трижды потрясал своей трещоткой, как при Sanctus’e [6], и мы двигались дальше.
Да, это была веселая школа! У каждого из нас хранилось в маленьком шкафчике полное облачение церковного служителя: черная с длинным шлейфом ряса, пелерина, стихарь с широкими туго накрахмаленными рукавами, черные шелковые чулки, две камилавки – одна суконная, другая бархатная – и брыжжи, обшитые мелкими белыми бусами, – словом, все, что требовалось.
Костюм этот был мне, по-видимому, к лицу. «Он в нем такой милашка», – говорила госпожа Эйсет.
К несчастью, я был очень мал ростом, и это приводило меня в отчаяние. Представьте себе, что, даже приподнявшись на цыпочки, я был не выше белых чулок Калюффа, нашего швейцара; к тому же, я был очень тщедушен… Однажды за обедней, перенося евангелие с одного места на другое, я упал под тяжестью этой книги и растянулся на ступеньках алтаря. Аналой сломался, служба была прервана. Это было в Троицын день. Какой скандал!.. Но, помимо этих незначительных неудобств, сопряженных с моим маленьким ростом, я был очень доволен своей судьбой, и часто, ложась вечером спать, мы с Жаком говорили друг другу: «А ведь это очень веселая школа!» К несчастью, нам недолго пришлось пробыть там: друг нашей семьи, ректор одного из южных университетов, написал моему отцу, что если он хочет получить стипендию для одного из своих сыновей в Лионском коллеже, то это можно будет устроить.
– Мы поместим туда Даниэля, – сказал господин Эйсет.
– А Жак? – спросила мать.
– Жак? Я оставлю его при себе. Он будет моим помощником. Тем более что я замечаю в нем склонность к торговле. Мы сделаем из него коммерсанта.
Совершенно не понимаю, на каком основании господин Эйсет решил, что Жак имеет пристрастие к торговле?! В те времена бедный мальчик имел только одно пристрастие – к слезам, и если бы его спросили…
Но его, как и меня, не спросили ни о чем.
Когда я пришел в коллеж, мне прежде всего бросилось в глаза то, что среди учеников я был единственный в блузе. В Лионе дети богатых людей в блузах не ходят. Их носят одни только уличные мальчишки. На мне же была простенькая клетчатая блузка, сшитая еще во время моего пребывания на фабрике. Значит, у меня был вид уличного мальчишки… При моем появлении в классе ученики захихикали: «Смотрите! Он в блузе!!» Учитель скорчил гримасу, и с этого момента он невзлюбил меня. Он говорил со мною каким-то пренебрежительным тоном, никогда не называя меня по имени: «Эй, вот вы там… малыш…» А между тем я раз двадцать повторял ему, что меня зовут Даниэлем Эй-се-том… В конце концов мои товарищи тоже стали называть меня Малышом, и это прозвище так и осталось за мной. Проклятая блуза!
Но не одна только блуза отличала меня от других детей… У всех у них были красивые сумки из желтой кожи, чернильницы из душистого букса, тетради в толстых переплетах. Книги у них были новенькие, с примечаниями внизу страниц, а у меня старые, подержанные, купленные у букинистов, покрытые плесенью, пахнувшие гнилью; корешки были всегда разорваны, и порой в них не хватало многих страниц. Жак старательно переплетал их с помощью картона и клейстера, но последним он чересчур злоупотреблял, отчего все они отвратительно пахли. Он смастерил мне также сумку с бесчисленными отделениями, очень удобную, но опять-таки злоупотребил клеем. Потребность клеить и переплетать превратилась у Жака в какую-то манию, как и его привычка плакать. Перед нашей печкой всегда красовалось множество маленьких горшочков с клеем, и, как только ему удавалось убежать из магазина, он клеил и переплетал. В остальное время он разносил по городу пакеты, писал под диктовку, ходил за провизией, словом, занимался «коммерцией».
А я… я скоро понял, что если вы стипендиат, носите блузу и называетесь Малышом, то вам нужно работать вдвое больше, чем другим, для того чтобы с ними сравняться. И Малыш действительно мужественно принялся за работу.
Молодец Малыш! Я вижу его зимой в нетопленной комнате, сидящим с закутанными в одеяло ногами за рабочим столом. На дворе мелкий снег бьет по стеклам окон; из магазина доносится голос господина Эйсета, диктующего:
«Я получил ваше почтенное письмо от 8‐го этого месяца».
И слезливый голос Жака, повторяющий:
«Я получил ваше почтенное письмо от 8‐го этого месяца».
Иногда дверь тихонько отворялась, и в комнату входила госпожа Эйсет. Она на цыпочках подходила к Малышу. Тсс!..
– Работаешь? – спрашивала она вполголоса.
– Да, мама.
– Тебе не холодно?
– О, нет!
Малыш лгал: ему было очень холодно. Тогда госпожа Эйсет садилась около него со своим вязаньем и сидела так часами, считая шепотом петли и по временам глубоко вздыхая.
Бедная госпожа Эйсет! Она постоянно думала о своих родных краях, которые не надеялась больше увидеть. Увы! На свое и на наше несчастье, ей суждено было очень скоро увидеть их…
Глава III
Он умер, молитесь за него!
Это было в понедельник, в июле месяце.
Выйдя из коллежа, я дал соблазнить себя игрой в горелки, а когда решился, наконец, пойти домой, то оказалось, что час был гораздо более поздний, чем я предполагал. Всю дорогу, от площади Терро до улицы Лантерн, я бежал, не останавливаясь, с книгами за поясом и шапкой в зубах. Но так как я страшно боялся отца, то на лестнице остановился на минуту передохнуть и придумать какую-нибудь историю, чтобы оправдать мое опоздание. Затем я храбро позвонил.
Дверь мне отворил сам господин Эйсет.
– Как ты поздно! – сказал он.
Дрожа от страха, я начал выкладывать свою ложь, но он не дал мне кончить и, прижав меня к груди, молча поцеловал долгим поцелуем.
Я ожидал по меньшей мере строжайшего выговора, а потому такая встреча меня удивила. Первой моей мыслью было,
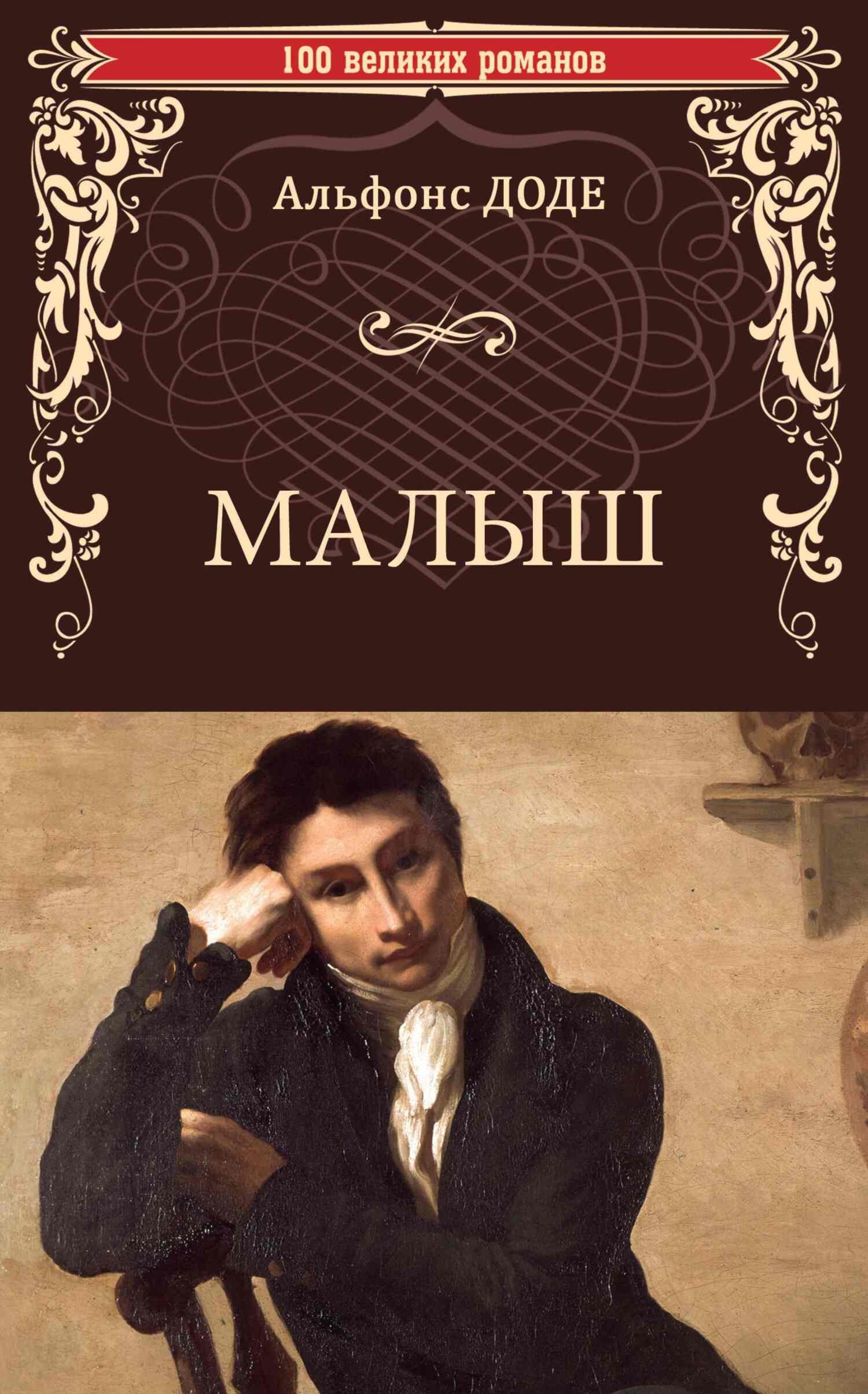


![Альфонс Доде - Малыш[рис. В.С. Саксона]](https://cdn.my-library.info/books/135773/135773.jpg)

