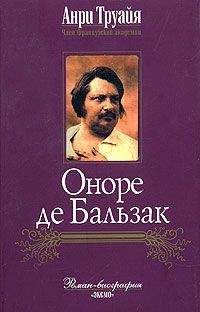Лакей прислушивался, и Цезарь, сперва не замечавший этого, в конце концов увидел его любопытную физиономию и смущенно замолчал; но банкир рассеянно бросил:
— Продолжайте, продолжайте, я вас слушаю!
У несчастного Бирото взмокла от пота сорочка. Но его охватил ледяной холод, когда дю Тийе вперил в него пристальный взгляд своих стальных с золотыми прожилками глаз, дьявольский блеск которых пронзил парфюмера до глубины сердца.
— Дорогой патрон, чем же я виноват, что банк отказался учесть ваши векселя, которые переданы Жигонне банкирским домом Клапарона с надписью: «без поручительства»? Как это вас, старого члена коммерческого суда, угораздило попасть впросак? Я прежде всего — банкир. Я могу дать вам денег, но не знаю, примет ли банк мою подпись, и не хочу рисковать. Я существую только благодаря кредиту. Все мы им только и держимся. Хотите денег?
— А можете ли вы дать, сколько мне требуется?
— Зависит от суммы. Сколько вам нужно?
— Тридцать тысяч франков.
— Все шишки на мою голову! — расхохотался дю Тийе.
Услышав этот смех, парфюмер, ослепленный роскошью, окружавшей дю Тийе, подумал, что так может смеяться только богач, для которого подобная сумма — сущий пустяк; он вздохнул с облегчением. Банкир позвонил.
— Попросите сюда ко мне кассира.
— Он еще не приходил, сударь, — ответил лакей.
— Бездельники смеются надо мной! Уже половина девятого, к этому времени можно наворотить дел на миллион франков.
Минут через пять явился Легра.
— Сколько у нас в кассе денег?
— Всего двадцать тысяч. Ведь вы распорядились купить на тридцать тысяч франков ренты с уплатой наличными пятнадцатого.
— Да, правда, я еще не совсем проснулся.
Как-то странно посмотрев на Бирото, кассир вышел.
— Если бы истину изгнали с земли, последнее свое слово она поручила бы сказать кассиру, — заявил дю Тийе. — Не участвуете ли вы в деле, которое открыл недавно маленький Попино? — спросил он после долгого гнетущего молчания, во время которого лоб парфюмера покрылся каплями пота.
— Да, — простодушно ответил Бирото, — а не могли бы вы учесть его векселя на более или менее крупную сумму?
— Принесите мне его векселей на пятьдесят тысяч франков, я помогу вам учесть их под небольшой процент у некоего Гобсека, человека весьма покладистого, когда у него много свободных денег, а их у него всегда вдоволь.
Бирото вернулся домой удрученный, не понимая еще, что банкиры перебрасывали его друг другу, точно мяч; но Констанс уже догадалась, что ни о каком кредите не может быть и речи: если три банкира отказали, все они, стало быть, справлялись о таком видном человеке, как помощник мэра, и рассчитывать на Французский банк больше не приходится.
— Попытайся отсрочить векселя, — сказала она, — пойди к Клапарону, — он твой компаньон; пойди ко всем, у кого есть твои векселя, которым приходит срок пятнадцатого, и попроси отсрочить их. А учесть векселя Попино ты всегда успеешь.
— Завтра тринадцатое! — прошептал совершенно убитый Бирото.
Говоря словами его же собственного проспекта, Бирото обладал сангвиническим темпераментом; волнения и умственное напряжение поглощали у него слишком много сил, восстановить которые мог только сон. Цезарина увела отца в гостиную и, чтобы развлечь его, сыграла «Сновидение Руссо» — прелестную вещицу Герольда, а Констанс села подле мужа с работой. Бедняга уронил голову на подушку дивана и всякий раз, как подымал глаза на жену, видел на губах ее нежную улыбку; так он и уснул.
— Бедняжка! — сказала Констанс. — Сколько ему предстоит пережить терзаний! Только бы у него хватило сил!
— Что с тобой, мама? — спросила Цезарина, заметив, что мать плачет.
— Доченька, я вижу, как надвигается банкротство. Если отцу придется объявить себя несостоятельным, нечего рассчитывать на чью-либо жалость. Будь готова, дитя мое, стать простой продавщицей. Когда я увижу, что ты стойко переносишь удары судьбы, я найду в себе силы начать жизнь сызнова. Твой отец не утаит ни гроша — я знаю его; я также откажусь от своих прав, и все, что у нас есть, пойдет с молотка. Отнеси завтра свои платья и драгоценности к дяде Пильеро, ведь ты, деточка, не несешь никакой ответственности.
Слова эти, сказанные с благочестивым смирением, повергли Цезарину в ужас. Она решилась было повидать Ансельма, но не могла преодолеть своей застенчивости.
На следующий день в девять часов утра Бирото уже был на улице Прованс: теперь его терзала тревога совсем иного рода, чем прежде. Добиваться кредита — самое обычное дело в коммерции. Затевая какое-нибудь предприятие, всегда изыскивают средства; но просьба об отсрочке векселя — это первый шаг к банкротству, и в коммерческой практике он равносилен первому проступку, который в судебной практике ведет виновного сначала в суд исправительной полиции, а затем к уголовному преступлению, подлежащему суду присяжных. Тайна ваших денежных затруднений и вашей неплатежеспособности становится известна всем. Купец, связанный по рукам и ногам, отдает себя во власть другого купца, а милосердие — добродетель, которая на бирже не котируется.
Парфюмер, недавно еще с самоуверенным видом расхаживавший по улицам Парижа, был теперь измучен сомнениями и не решался войти в дом Клапарона; он начинал уже понимать, что у банкиров сердце — всего лишь орган кровообращения. Клапарон с его шумной веселостью казался Цезарю таким бесцеремонным и грубым, что парфюмер боялся к нему подступиться.
«Но он ближе к народу и, может статься, будет менее бездушным!» — таков был первый упрек, подсказанный Бирото его отчаянным положением.
Собрав остатки мужества, Цезарь поднялся по лестнице на неприглядные антресоли, в окнах которых успел заметить порыжевшие от солнца зеленые занавески. На прибитой к дверям овальной медной дощечке черными буквами было выгравировано: «Контора»; Бирото постучался, ответа не последовало, и он вошел. Более чем скромное помещение говорило о скудости, скупости или полной заброшенности. За медной решеткой, укрепленной на некрашеном деревянном барьере, стояли почерневшие столы и конторки, но не видно было ни одного служащего. Пустовавшие столы были уставлены чернильницами с заплесневевшими чернилами, а из этих чернильниц высовывались гусиные перья, растрепанные, как вихры уличных мальчишек, или расходящиеся венчиком, как утренние лучи солнца; тут же навалены были никому, видимо, не нужные папки, бумаги и бланки. Паркет походил на пол в приемной пансиона: сырой, грязный, затоптанный. Следующая комната, на двери которой значилось «Касса», вполне соответствовала нелепому и мрачному виду первой. В одном из углов ее находилась большая дубовая загородка с решеткой из медной проволоки и с задвигающимся окошечком; внутри этой клетки стоял огромный железный сундук, в котором, наверное, уже завелись крысы. За открытой дверью виднелся еще какой-то несуразный письменный стол, а перед ним безобразное зеленое кресло с продавленным сиденьем, из которого торчал конский волос, закручиваясь множеством игривых завитков, как кудряшки на парике самого Клапарона. Главным украшением этой комнаты, служившей, очевидно, гостиной до того, как квартиру превратили в контору банка, был круглый стол, покрытый зеленым сукном; вокруг него стояли старые, обитые черной кожей стулья с некогда позолоченными гвоздиками. В довольно изящном по форме камине и на чугунной его доске незаметно было ни малейших следов копоти, которая свидетельствовала бы о том, что этот камин топили. Засиженное мухами зеркало имело самый убогий вид и вполне гармонировало с часами в футляре из красного дерева, приобретенными, вероятно, с торгов на распродаже мебели какого-нибудь престарелого нотариуса; часы эти не радовали взгляда, и без того уже удрученного видом двух канделябров без свечей и густым слоем пыли, покрывавшей все вокруг. Закопченные обои мышино-серого цвета с розовым бордюром указывали на длительное пребывание в комнате заядлых курильщиков. Все здесь напоминало так называемые «редакционные комнаты» в газетах. Боясь быть нескромным, Бирото трижды постучался в дверь, противоположную той, в которую он вошел.
— Войдите! — крикнул Клапарон, и по звуку его голоса можно было судить о том, как далеко он находился и как пуста была соседняя комната, откуда до парфюмера доносилось потрескивание огня в камине, но где самого банкира, очевидно, не было. Комната эта служила Клапарону личным кабинетом. Между пышным кабинетом Келлера и удивительно запущенным жилищем этого мнимого крупного дельца была не меньшая разница, чем между Версалем и вигвамом вождя племени гуронов. Парфюмеру, уже видевшему величие банка, предстояло теперь познакомиться с шутовской на него пародией.
Клапарон лежал на кровати, которая поставлена была в продолговатой нише, устроенной в задней стене кабинета; комната эта была обставлена довольно изящной мебелью, но испорченной, разрозненной, изломанной, ободранной, загрязненной и приведенной в негодность безалаберными привычками хозяина; при виде Бирото Клапарон запахнул засаленный халат, положил трубку и так поспешно задернул полог кровати, что даже наивный парфюмер усомнился в его целомудрии.