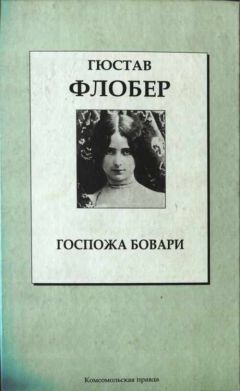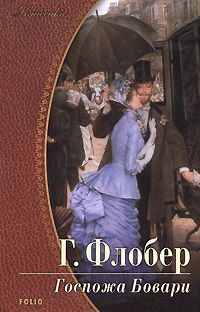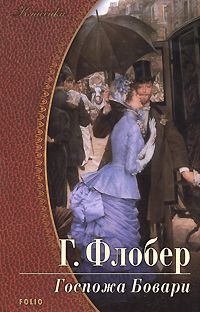— Вот, — сказал он величественно, — окружность славного колокола Амбуаза. Он весил сорок тысяч фунтов. Подобного ему не было во всей Европе. Мастер, который его отливал, умер от радости…
— Пойдем дальше, — сказал Леон.
Вожатый двинулся дальше; он привел их назад, к часовне Богородицы, где всеобъемлющим жестом раскинул руки и с гордостью деревенского собственника, показывающего свой фруктовый сад, произнес:
— Под этою простою плитой покоятся останки Пьера де Брезе, владельца Варенны и Брисака, великого маршала Пуату и губернатора Нормандии, убитого при Монлери шестнадцатого июля тысяча четыреста шестьдесят пятого года.
Леон, кусая себе губы, переминался на месте.
— А этот рыцарь, направо, закованный в латы, верхом на коне, поднимающемся на дыбы, — его внук Лун де Брезе, владелец Бреваля и Моншове, граф де Малеврие, барон де Мони, камергер короля, кавалер Ордена и, подобно деду, губернатор Нормандии, скончавшийся в воскресенье двадцать третьего июля тысяча пятьсот тридцать первого года, как гласит надпись; внизу этот человек, готовый сойти в могилу, то же самое лицо. Едва ли существует, не правда ли, более совершенное изображение тленности всего земного?
Госпожа Бовари поднесла к глазам лорнет. Леон, стоя неподвижно, смотрел на нее, не пытаясь уже сопротивляться ни словом, ни движением; он терял всякое мужество перед этим двойственным союзом болтливости и равнодушия.
Вечный проводник не унимался:
— Рядом с ним плачущая на коленях женщина — его супруга, Диана де Пуатье, графиня де Брезе, герцогиня де Валентинуа, родилась в тысяча четыреста девяносто девятом году, умерла в тысяча пятьсот шестьдесят шестом году; а налево, с ребенком на руках, — Пресвятая Дева. Теперь обернитесь сюда; вот могилы Амбуаз. Оба они были кардиналами и архиепископами Руана. Этот был министром при короле Людовике XII; он сделал много добра для собора. В духовном завещании он отказал тридцать тысяч экю в пользу бедных.
Не переставая болтать, он втолкнул их в одну часовню, всю загроможденную балюстрадами, и, отодвинув некоторые из них, открыл какую-то глыбу, которая могла быть и плохо изваянной статуей.
— Она украшала некогда, — продолжал он нараспев, — могилу Ричарда Львиное Сердце, короля Англии и герцога Нормандии. Это кальвинисты, сударь, привели ее в такое состояние. Они по злобе зарыли ее в землю, под архиепископским местом. Взгляните, вот дверь, через которую архиепископ проходит в свои покои. Теперь пойдем смотреть Гаргульские расписные стекла.
Но тут Леон поспешно вынул из кармана серебряную монету и схватил Эмму под руку. Швейцар остолбенел, не понимая этой несвоевременной щедрости, когда приезжему оставалось еще столько примечательных вещей. Поэтому он крикнул ему вдогонку:
— Эй, сударь! А шпиль-то, шпиль…
— Нет, благодарю, — ответил Леон.
— Напрасно, сударь! Высота — четыреста сорок футов, всего на девять футов ниже высочайшей египетской пирамиды. Весь отлит из чугуна…
Но Леон уже бежал; ему казалось, что любовь его, оцепеневшая за эти два часа в церкви, как ее камни, испарится теперь, как дым, сквозь эту трубу с узорными прорезами, так чудно торчащую на соборе, словно причудливая затея какого-нибудь сумасбродного медника.
— Куда же мы идем? — спросила она.
Не отвечая, он спешил к выходу, и уже госпожа Бовари окунула пальцы в святую воду, когда вдруг они услышали за собою чье-то тяжелое дыхание и мерный стук булавы. Леон обернулся.
— Сударь!
— Что такое?
Он увидел перед собою швейцара, который тащил под мышкой и подпирал для равновесия животом томов двадцать толстых непереплетенных книг. То были разные сочинения «о соборе».
«Дурак!» — проворчал Леон и бросился к выходу.
Мальчишка шалил на паперти.
— Сбегай за извозчиком!
Мальчик стрелой помчался по улице Четырех Ветров; несколько минут они стояли друг перед другом, одни и несколько смущенные.
— Ах, Леон!.. Право, я не знаю… должна ли я!..
Она жеманилась. Потом сказала серьезно:
— Это очень неприлично, вы знаете?
— Почему же? — возразил клерк. — В Париже это постоянно делается!
Эти слова, как неопровержимый аргумент, заставили ее решиться.
Извозчик, однако, не ехал. Леон боялся, что Эмма снова войдет в церковь. Наконец фиакр показался.
— Выходите, по крайней мере, через северный портал! — крикнул им швейцар, стоявший на пороге. — Там увидите «Воскресение», «Страшный суд», «Рай», «Царя Давида» и «Грешников в вечном огне».
— Куда ехать прикажете? — спросил кучер.
— Куда хотите! — ответил Леон, подсаживая Эмму в карету. И грузное сооружение тронулось.
Карета направилась по улице Большого Моста, пересекла Площадь Искусств, проехала по Наполеоновской набережной, по Новому мосту и круто остановилась перед статуей Пьера Корнеля.
— Поезжайте дальше! — крикнул голос изнутри.
Карета снова пустилась в путь и от перекрестка Лафайет, увлекаемая спуском, примчалась вскачь на двор железнодорожного вокзала.
— Нет, поезжайте прямо! — крикнул тот же раздраженный голос.
Карета выбралась из-за решетчатой ограды на бульвар и поплелась тихою рысцой под высокими вязами. Кучер отер платком лоб, поставил между колен свою кожаную шляпу и пустил экипаж поперечными аллеями, спускаясь между газонов к реке.
Карета ехала вдоль реки по вымощенной булыжником бечевой дороге, в направлении Уасселя, — ехала долго, миновала острова.
Но внезапно она повернула в сторону, стремительно понеслась через Катрмар, Соттевиль, по Большому Шоссе, по улице Эльбеф и избрала местом своей третьей остановки площадь перед Ботаническим садом.
— Да поезжайте же! — крикнул голос с еще большим бешенством.
И, покатив снова, она проехала по Сен-Северу, по набережной Кюрандье, по Жерновой набережной, еще раз через мост, по площади Марсова поля и задами больничных садов, где на солнышке у террасы, сплошь увитой плющом, греются старики в черных куртках, поднялась по бульвару Буврель, посетила бульвар Кошуаз и предместье Мон-Рибудэ до высот Девилля.
Потом поехала обратно; тут она стала бродяжничать уже без всякого плана, без всякого направления, по воле случая. Ее видели в Сен-Поле, в Лес-кюре, на холме Гарган, в Руж-Марке и на площади Гальярбуа; на улице Малядрери, на улице Динандери, у церквей Св. Романа, Св. Вивиана, у Сен-Маклу, у Сен-Никеза, у таможни, у Старой Башни, у Трех Трубок и у монументального городского кладбища. Время от времени кучер с козел бросал безнадежные взгляды на кабаки. Он не понимал, что за страсть к передвижениям толкала его седоков без отдыха вперед. Едва он придерживал лошадей, как за его спиной раздавались гневные крики. Тогда он хлестал изо всей мочи пару своих взмыленных кляч, не остерегаясь уже ухабов, задевая то за то, то за другое, не обращая ни на что внимания, потеряв всякую бодрость и чуть не плача от усталости, жажды и скуки.
В гавани, среди телег и бочек, на улицах и перекрестках обыватели широко раскрывали глаза, изумленные столь необычным в провинции видом кареты со спущенными шторами, появлявшейся то здесь, то там, замкнутой плотнее, чем могила, и качаемой по ухабам, как судно на море.
Лишь один раз, за городом, когда солнце всего жарче ударяло в старые посеребренные фонари, дрогнули шторки из желтого холста: чья-то рука без перчатки высунулась из-под них и выбросила клочки бумаги, рассеявшейся по ветру и опустившейся, словно стая белых бабочек, на поле клевера все в красном цвету.
Около шести часов вечера карета остановилась в одном из переулков квартала Бовуазин, из нее вышла женщина и пошла, не поднимая вуали и не оглядываясь.
Придя в гостиницу, госпожа Бовари удивилась: дилижанса не было. Ивер прождал ее пятьдесят три минуты и наконец уехал.
Ничто, впрочем, не принуждало ее спешить домой; но она дала слово, что вернется в этот день к вечеру. Шарль ждал ее; и она уже испытывала то чувство трусливой покорности, которое для многих женщин служит вместе и наказанием, и выкупом за супружескую измену.
Живо уложила она чемодан, уплатила по счету, наняла один из стоявших на дворе кабриолетов и, торопя и подбодряя возницу, справляясь ежеминутно, который час и сколько верст проехали, догнала благополучно «Ласточку» у первых строений Кенкампуа.
Едва заняв свой уголок почтовой кареты, она закрыла глаза и открыла их только у подножия холма, откуда завидела издали Фелисите, стоявшую на страже у кузницы. Ивер придержал лошадей, и кухарка, дотянувшись до окошка, сказала ей таинственно:
— Сударыня, вам нужно сейчас же пойти к господину Гомэ. Какое-то неотложное дело.
В местечке было тихо, как всегда. На углах улиц виднелись розовые кучки, дымившиеся на воздухе, так как то была пора варки варенья, а все ионвильцы заготовляли его про запас в один и тот же день. Но перед аптекою красовалась куча больших, чем остальные, размеров, настолько превосходившая их, насколько промышленное заведение должно превосходить обывательские очаги, а общественная потребность — личные прихоти.