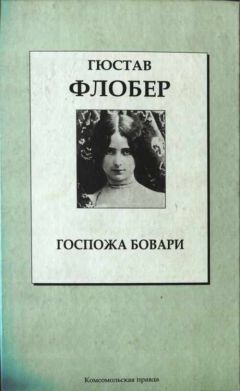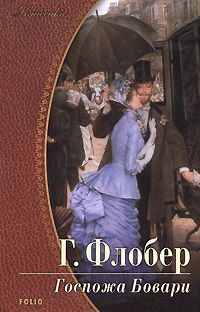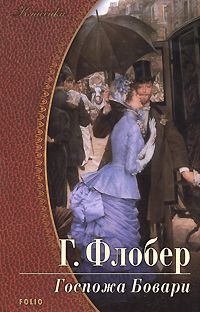Расставшись вечером с супругами Бовари, Леон последил за ними издали по улице; увидя, что они остановились перед «Красным Крестом», он повернул домой и всю ночь обдумывал план действий.
На другой день, часов в пять, вошел он в кухню гостиницы; щеки его были бледны, горло сжимала судорога, но в душе его была та решимость трусливых людей, которую ничто не в силах остановить.
— Господин уехал, — сказал лакей.
Это показалось ему добрым предзнаменованием. Он поднялся наверх.
Она не смутилась при его появлении, напротив, стала извиняться, что забыла сказать ему, где они остановились.
— О, я угадал сам, — сказал Леон.
— Как?
Он уверял, что его привел как бы ощупью инстинкт. Она улыбнулась, и Леон тотчас же, чтобы поправить свою глупость, рассказал, что все утро провел в розысках по всем гостиницам города.
— Итак, вы решились остаться? — прибавил он.
— Да, — сказала она, — и поступила неправильно. Не следует привыкать к удовольствиям, которыми нельзя пользоваться, когда на тебе лежит множество обязанностей.
— О, я могу себе представить…
— Ах нет, не можете: вы не женщина.
Но у мужчин есть свои тягости, — разговор начинался с философических размышлений. Эмма распространилась о тщете земных привязанностей и о вечном одиночестве, на какое обречено человеческое сердце.
Чтобы порисоваться или из наивного подражания этой грусти, и ему сообщившейся, молодой человек заявил, что чудовищная скука преследовала его за все время университетских занятий. Судебная деятельность раздражает его, он чувствует в себе призвание к другому, а мать не перестает в каждом письме его терзать. Все определеннее выяснял каждый из них причины своего горя и, по мере того как говорил, сам воспламенялся своими все более откровенными признаниями. Но порою оба останавливались перед неприкрытым выражением своей мысли и искали фраз, могущих служить ее переводом. Она не призналась ему в своей страсти к другому, и он не сказал ей, что ее забыл.
Быть может, в эти минуты он не помнил своих ужинов с кокотками после танцев; да и она — своих утренних прогулок по лугам в усадьбу любовника. Шум города едва до них доносился; комнатка казалась нарочно стеснившейся, чтобы сближать их в уютном уединении. Эмма, в канифасовом пеньюаре, сидела, откинув черный узел волос на спинку кресла, желтые обои за нею казались золотым фоном; непокрытая голова ее отражалась в зеркале, с белым пробором посредине и кончиками ушей, выглядывавшими из-под бандо.
— Но, простите, — молвила она, — не нужно было мне говорить об этом, я утомляю вас вечными жалобами.
— Нет, ничуть, ничуть!
— Если бы вы знали, — продолжала она, поднимая к потолку прекрасные глаза с трепетавшими на них слезинками, — если бы вы только знали, о чем я мечтала!
— А я! О, как я страдал! Часто я уходил из дому, шел вперед наугад, бродил по набережным, стараясь задурманить себя шумом толпы, и все же не в силах был избавиться от наваждения, меня преследовавшего. На бульварах, в одном магазине эстампов, есть итальянская гравюра, изображающая музу. Она одета в тунику и глядит на луну, в распущенных волосах ее незабудки. Что-то непрестанно толкало меня к ней, я простаивал перед нею целые часы. — И дрожащим голосом он прибавил: — Она была немного похожа на вас.
Госпожа Бовари отвернулась, чтобы он не уловил невольной улыбки, тронувшей ее губы.
— Часто, — продолжал он, — я писал вам письма и потом рвал.
Она не отвечала. Он продолжал:
— Иногда я воображал, что какой-нибудь случай приведет вас ко мне. Мне мерещились вы на углах улиц, я бегал за всеми каретами, из окон которых развевались шаль или вуаль, похожие на ваши…
Она решила, казалось, позволить ему высказаться, не прерывая его. Скрестив руки и опустив голову, она разглядывала бантики своих туфель и порою легким движением пальцев шевелила их атлас.
Наконец она вздохнула:
— Но всего печальнее, не правда ли, влачить бесполезное существование, как я. Если бы еще наши горести могли послужить кому-либо на пользу, можно было бы утешиться мыслью о жертве!
Он принялся восхвалять добродетель, долг, молчаливые жертвы: сам он чувствует невероятную потребность самопожертвования и не знает, чем ее утолить.
— Я хотела бы, — сказала она, — быть сестрой милосердия в больнице.
— Увы, — ответил он, — мужчинам не дано выполнять святые призвания, и я не вижу ни в одной профессии… за исключением, быть может, профессии врача…
Пожав слегка плечами и прерывая его речь, Эмма заговорила о своей болезни, от которой едва не умерла; как жаль! — теперь она уже не страдала бы. Леон тотчас же пожелал и себе «покоя под могильной плитой»; ведь однажды вечером он написал даже завещание, прося в нем, чтобы его тело покрыли тем дивным бархатным ковром, что подарила ему Эмма. Так говорили они, ибо такими они хотели казаться себе в прошлом, и тот и другая; они рисовали себе идеал, под который подгоняли свою прошлую жизнь. Впрочем, слово — это прокатные вальцы, на которых чувство всегда растягивается.
Но при этой выдумке по поводу ковра она спросила:
— Зачем же, однако?
— Зачем? — Он колебался. — Затем, что я безумно любил вас.
И, одобрив себя за то, что смело перешагнул через препятствие, Леон искоса поглядывал на нее, следя за выражением ее лица.
Оно было как небо, с которого внезапный ветер разогнал все облака. Тучи грустных мыслей, омрачавших его, казалось, рассеяли и исчезли из ее синих глаз, и все лицо ее просияло.
Он ждал.
Наконец она ответила:
— Я это всегда подозревала…
Тогда они стали рассказывать друг другу мелкие события этой далекой жизни, радости и печали которой только что все сказались в одном слове. Он припомнил беседку из жимолости, платья, которые она носила, вещи ее комнаты, весь ее дом.
— А где наши бедные кактусы?
— Их побило морозом в эту зиму.
— Знаете ли, я часто о них думал. Вспоминал, как, бывало, в летнее утро солнце ударяет в ваши окна… видел ваши обнаженные руки, мелькавшие за горшками цветов…
— Бедный друг, — сказала она, протягивая ему руку.
Леон быстро прильнул к ней губами. Потом глубоко вздохнул и сказал:
— В те времена вы были для меня какою-то таинственною силою, полонившей мою жизнь. Однажды, например, я пришел к вам; но вы этого, конечно, не помните?
— Помню, — сказала она. — Продолжайте.
— Вы стояли внизу, в прихожей, на ступеньке и собирались уходить; на вас была шляпа с мелкими голубыми цветочками; и, не дожидаясь приглашения с вашей стороны, неожиданно для себя самого я пошел за вами. С каждою минутой, однако, я все яснее сознавал свою глупость и продолжал идти вслед за вами, не смея открыто сопровождать вас и не желая вас покинуть. Когда вы входили в лавку, я оставался на улице, смотрел сквозь стекло, как вы снимали перчатки, пересчитывали на прилавке мелочь. Наконец вы позвонили у двери госпожи Тюваш, вам отперли, а я остался, как идиот, перед большою тяжелою дверью, захлопнувшейся за вами.
Госпожа Бовари, слушая его, удивлялась, что она так стара; все эти воспоминания, проходившие снова перед нею, казалось, удлиняли ее протекшую жизнь; то были в прошлом ее сердца какие-то необъятные пространства, которые она оставила за собой и куда теперь мысленно переносилась. Время от времени, еле слышным голосом и полузакрыв глаза, она роняла:
— Так! Верно! Верно!
Оба слышали, как в разных местах квартала Бовуазин, переполненного пансионами, церквами и огромными покинутыми домами, пробило восемь часов. Они умолкли и глядели друг на друга; в голове у них шумело, как будто от встречи пристально устремленных зрачков, как гулкий ток отделялись какие-то звуки. Их руки сплелись: прошедшее, будущее, воспоминание, грезы — все потонуло в блаженстве этого восторга. Сумрак сгущался по стенам, где, полузатонувшие в тени, еще блистали яркие краски четырех литографий, изображавших сцены из «la tour de Nesle» с объяснениями по-испански и по-французски внизу. Через узкое окно был виден уголок темного неба в вырезе остроконечных крыш.
Она встала, зажгла на комоде две свечи и опять вернулась на свое место.
— Итак?.. — проговорил Леон.
— Итак?.. — отозвалась она.
Он придумывал, как бы связать прерванный разговор; она сказала:
— Отчего до сих пор никто никогда не высказывал мне таких чувств?
Клерк воскликнул, что не легко понять идеальные натуры. Он полюбил ее с первого взгляда и приходил в отчаяние, думая о том, как они могли бы быть счастливы, если бы случай свел их раньше и неразрывно друг с другом связал.
— Я иногда об этом думала, — молвила она.
— Какая мечта! — прошептал Леон. И, нежно коснувшись голубой каймы ее длинного белого пояса, прибавил: — Что нам мешает начать жизнь сызнова?..