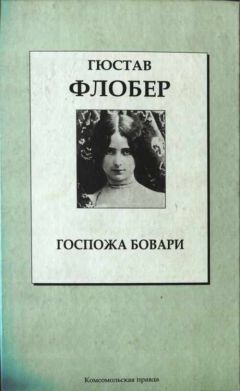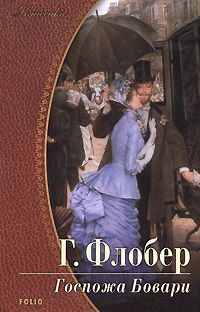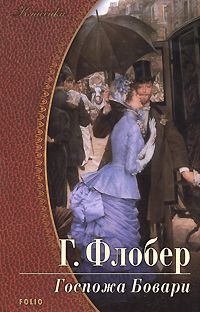Барыня приобрела себе шляпу, перчатки, букет цветов. Барин боялся опоздать к началу спектакля, и, не успев проглотить и по тарелке супа, они стояли уже перед входом в театр, двери которого были еще заперты.
Перед театром стояла толпа, симметрично стиснутая между двумя балюстрадами. На углах соседних улиц гигантские афиши повторяли причудливыми литерами: «Лючия ди Ламмермур… Лагарди… опера…» и т. д. Погода стояла прекрасная; в воздухе было душно: завивка волос размокла от пота, красные лбы осушались вынутыми из карманов носовыми платками; порою теплый ветерок с реки слегка колебал кайму парусиновых гардин, раскинутых над входами в кафе. А пониже дул ледяной сквозняк, несший с собою запах кож, сала и масла. То были испарения улицы Шаррет, черневшей складами, где перекатывались бочки.
Из боязни показаться смешною, Эмма прежде, чем войти, пожелала прогуляться по гавани. Бовари из осторожности не выпускал из руки билетов, прижимая их к животу в кармане панталон.
Сердце забилось у нее сильнее уже в вестибюле. Она невольно улыбнулась тщеславною улыбкою при виде толпы, стремящейся другим коридором направо, меж тем как она поднималась по лестнице в «первые места». С ребяческим удовольствием толкала она пальцем широкие обитые двери; всею грудью вдыхала пыльный воздух коридоров и, сев в ложе, откинулась назад с непринужденностью герцогини.
Зал начинал наполняться, бинокли вынимались из футляров; абонированные посетители раскланивались друг с другом издали. Усталые от торговых хлопот, они приходили в храм искусства расправить члены, но, не забывая все же «дел», продолжали дневную беседу о хлопке, о тридцатишестиградусном спирте, об индиго. Мелькали лица стариков, спокойные, без выражения, белые, с белыми волосами, походившие на потускневшие от свинцовых паров серебряные медали. Молодые фаты гоголем ходили по партеру, выставляя напоказ в вырезах жилетов, розовые или зеленые, цвета незрелых яблок, галстуки; госпожа Бовари с восхищением любовалась сверху, как их затянутые в желтые перчатки пальцы опирались на трости с золотыми набалдашниками.
Тем временем в оркестре зажглись свечи; люстра спустилась с потолка, сияя гранеными подвесками и распространяя по зале внезапную веселость; потом один за другим вошли музыканты, и начался долгий хаос нестройных звуков: хрипели контрабасы, взвизгивали скрипки, трубили корнет-а-пистоны, пищали флейты и флажолеты. Но вот со сцены раздались три удара; грянули раскаты литавр, медь отчеканила несколько аккордов; взвился занавес, и открылся пейзаж.
То было перепутье в лесу, с ручьем и дубом на левой стороне сцены. Поселяне и вельможи, с пледами через плечо, хором пели охотничью песню; потом вышел атаман и стал призывать духа зла, подняв руки к небу; появился еще кто-то; потом оба ушли, а охотники запели снова.
Эмма почувствовала себя перенесенною в былое своей ранней юности, когда она зачитывалась Вальтером Скоттом. Ей чудилось сквозь туман гудение шотландских волынок, отдававшееся в зарослях вереска. Воспоминание о романе облегчало ей понимание текста оперы, и она следила за интригой, фраза за фразой, меж тем как едва уловимые мысли, набегавшие на нее, обрывались, уносимые бурным дыханием музыки. Ритм то баюкал ее, то заставлял все существо ее трепетать, словно ее нервы были струнами под смычком скрипок. Она не могла вдоволь налюбоваться костюмами, декорациями, фигурами действующих лиц, намалеванными деревьями, колыхавшимися, когда мимо них проходили, бархатными беретами, плащами, шпагами — всеми этими мнимыми вещами и красивыми обманами, согласно двигавшимися под музыку, словно в атмосфере иного мира. Но вот выступила молодая женщина и бросила кошелек зеленому егерю. Потом она осталась одна, и тогда послышались трели флейты, то журчавшей, как ручей, то щебетавшей, как птичка. Лючия уверенно запела свою каватину в соль-мажор; она жаловалась на муку любви, просила крыльев. Эмме тоже хотелось бежать от жизни, далеко улететь в объятиях милого. Вдруг появился Эдгар Лагарди.
Он был бледен тою великолепною бледностью, которая придает величие мрамора лицам пылких сынов юга. Его сильный стан был стянут коричневой курткой; маленький тонкого чекана кинжал бился у левого бедра; он водил вокруг томным взором и показывал ослепительные зубы. Ходили слухи, что одна польская княгиня услышала его пение вечером на морском берегу, вблизи Биаррица, где он чинил шлюпки, и влюбилась в него. Она истратила на него все свое состояние, а он бросил ее для других женщин; и эта романтическая слава упрочила знаменитость артиста. Расчетливый актер старался сам о том, чтобы в рекламы, о нем трубившие, проскальзывала и поэтическая фраза о неотразимом обаянии его личности, о чувствительности его души. Прекрасный голос, непоколебимая самоуверенность, перевес темперамента над умом, пафоса над лиризмом дополняли законченный до совершенства характер этого истинного шарлатана, эту смесь куафера с тореадором.
С первой же сцены он увлек залу. Он сжимал Лючию в объятиях, покидал ее, возвращался к ней снова, изображал отчаяние: вспышки гнева чередовались у него с элегическим шепотом бесконечной нежности, и звуки вырывались из его обнаженной шеи, полные, рыданий и поцелуев. Эмма наклонилась, чтобы лучше видеть его, и вдавливала ногти в бархат ложи. Она впивала эти мелодические жалобы, тянувшиеся под аккомпанемент контрабасов, словно крики утопающих в смятении бури. Она узнавала все упоение и муки, от которых едва не умерла сама. Голос певицы казался ей отзвуком ее собственной души, а чаровавшая ее иллюзия имела что-то общее с ее жизнью. Но никто никогда не любил ее такою любовью. Не плакал он, подобно Эдгару, в последний вечер, когда светила луна и когда они говорили друг другу: «До завтра! До завтра!..» Зал гремел от рукоплесканий; пришлось повторить часть фуги; влюбленные пели о цветах на их могиле, о клятвах, об изгнании, о роке, о надеждах, и, когда прозвучало их заключительное «прости», у Эммы вырвался пронзительный крик, слившийся с гулом последних аккордов.
— Но зачем этот знатный господин ее преследует? — спросил Бовари.
— Да нет же, — отвечала Эмма, — это ее возлюбленный.
— Однако же он клянется отмстить ее семье, а тот, что приходил сейчас, говорил: «Я люблю Лючию и думаю, что любим ею». К тому же он ушел под руку с ее отцом. Ведь этот уродец с петушиным пером на шляпе ее отец, не правда ли?
Несмотря на толкование Эммы, с того дуэта, когда Жильбер посвящает своего господина в придуманные им отвратительные козни, Шарль при виде мнимого обручального кольца, которое должно ввести в обман Лючию, поверил, что это залог любви, присланный Эдгаром. Он сознавался, впрочем, что во всей истории ничего не понял из-за музыки, сильно вредившей словам.
— Все равно, — сказала Эмма. — Молчи.
— Ведь я, знаешь, — сказал он, наклоняясь к ее плечу, — люблю отдавать себе во всем отчет.
— Молчи, молчи! — повторила она с нетерпением.
Лючия выступала, поддерживаемая прислужницами, в венке из померанцевых цветов, и лицом — белее атласа своего белого платья. Эмме вспомнился день ее свадьбы, узкая межа между хлебов, по которой двигался в церковь свадебный поезд. Почему, подобно Лючии, она не боролась, не молила? Нет, она была весела и не замечала, в какую бросалась пропасть… Ах, если бы во всей свежести красоты, до позора брака и до разочарований прелюбодеяния, она могла отдать свою жизнь человеку с верным, великодушным сердцем, то для нее и нежность, и добродетель, и наслаждение, и долг — все слилось бы воедино, и никогда не сошла бы она с высот такого счастья. Но такое счастье, разумеется, ложь, придуманная людьми, чтобы отнять надежду у всякого желания. Она знает теперь всю ничтожность страстей, возвеличиваемых искусством. Усиливаясь освободить свою мысль от его внушений, Эмма не хотела в этом изображении своих собственных страданий видеть ничего другого, как только художественную фантазию, приятную для глаз, и даже внутренне улыбалась с презрительным сожалением, когда в глубине сцены из-за бархатной портьеры вдруг появился мужчина в черном плаще. Он сделал движение, и его широкополая испанская шляпа упала с головы; в ту же минуту оркестр и певцы начали секстет. Эдгар, пылавший гневом, заглушал остальных своим звучным голосом.
Аштон в низком регистре бросал ему убийственные вызовы; Лючия испускала пронзительные вопли; Артур в стороне выводил средние ноты, а бас министра гудел, как орган, а женские голоса, подхватывая его слова, повторяли их хором, как сладостное эхо. Все стояли в ряд и все жестикулировали; гнев, мщение, ревность, ужас, милосердие, изумление выливались одновременно из их полуоткрытых уст. Оскорбленный любовник потрясал голою шпагой; кружевной воротник на нем приподнимался в такт с колыханиями его груди; он ходил то вправо, то влево, крупно шагая и звеня о дощатый пол серебряными шпорами мягких ботфортов, расширявшихся от щиколотки. В нем жила, думалось Эмме, неиссякаемая любовь, если он мог такими потоками изливать ее в публику. Ее слабые попытки развенчать иллюзию потонули в поэтическом впечатлении от захватившей ее роли, и, влекомая к человеку чарами изображаемой им личности, она пыталась представить себе его жизнь, громкую, необычайную, великолепную жизнь, которую могла бы вести и она, если бы этого захотел случай. Они могли бы встретиться, полюбить друг друга. С ним она разъезжала бы по всем странам Европы, из столицы в столицу, деля его труды и его гордость, подбирая бросаемые ему цветы, своими руками вышивая его костюмы. Каждый вечер из-за золоченой сетки глубокой ложи она, замирая от блаженства, ловила бы излияния его души, он пел бы для нее одной; со сцены, играя, он глядел бы на нее. Вдруг ее охватило какое-то безумие; он глядит на нее, это несомненно. Ей захотелось броситься к нему, найти прибежище в его силе, как в воплощении самой любви, и сказать, крикнуть ему: «Возьми меня, увези, уедем! Я твоя, твоя. Тебе весь мой пыл, все мои грезы».