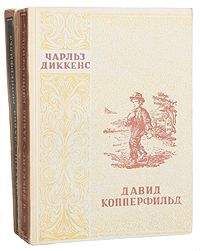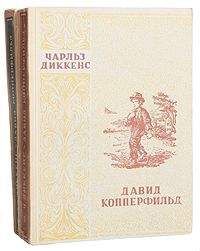Я не мог бы желать более красивой женушки за своем столом, но, конечно, мог бы пожелать немного больше простора. Я не знаю, как это получилось, но, хотя обыкновенно нас было только двое, нам всегда было тесно. В то же время было как будто и слишком много простора, так как терялась то одна вещь, то другая. Я подозреваю, что происходило это потому, что ни одна вещь не имела у нас своего определеного места, исключая пагоды Джипа, которая всегда у всех бывала на дороге.
За этим обедом Трэдльс был так стиснут пагодой, футляром от гитары, мольбертом, за которым Дора рисовала свои цветы, и моим письменным столом, что я серьезно опасался, будет ли он в состоянии действовать ножом и вилкой. Но он протестовал со своим обычным добродушием.
— Что вы! Да это океанские просторы! Уверяю вас, Копперфильд, настоящие океанские просторы!
Второе, чего бы мне хотелось, это чтобы не поощрялись прогулки Джипа по нашему обеденному столу. Я начинал думать, что это вообще вносит некоторый беспорядок, даже не имей он привычки, расхаживая по столу, влезать лапкой в соль и в масло. На этот раз он, видимо, счел своей специальной задачей держать в страхе Трэдльса: он лаял на моего друга и делал налеты на его тарелку с таким бесстрашием и настойчивостью, что, можно сказать, целиком овладел разговором.
Однако, зная нежное сердечко моей дорогой Доры и ее чувствительность ко всему, что касалось ее любимца, я даже и не пробовал протестовать. По тем же соображениям я не позволил себе ни одного намека на слетевшие со стола и разбившиеся тарелки.
— Любимая моя, — сказал я Доре, — что у вас на этом блюде?
Я не мог догадаться, почему Дора начала делать мне милые гримаски, точно желая поцеловать меня.
— Устрицы, дорогой мой! — наконец проговорила женушка.
— Это ваша идея? — воскликнул я в восторге.
— Д-да, Доди.
— Очень счастливая идея: Трэдльс — большой любитель устриц.
— Д-да, Доди, и я купила целый чудесный бочоночек этих устриц, продавец очень хвалил их. Но я… я боюсь, что с ними что-то случилось, они как будто не настоящие.
Тут Дора покачала головой, и в ее глазках сверкнули бриллианты.
— Они лишь полураскрыты, — сказал я, взглянув, — надо совсем открыть их, дорогая!
— Но они не хотят открываться! — воскликнула в отчаянии Дора, делая невероятные усилия раскрыть устрицу.
— Знаете, Копперфильд, — сказал Трэдльс, весело поглядывая на блюдо с устрицами, — я думаю, дело в том… дело в том, что эти превосходные устрицы еще совершенно не открыты.
Они в самом деле были совершенно не открыты, а у нас не имелось устричного ножа. Да и будь он у нас, все равно мы не сумели бы им воспользоваться. Так, глядя на устрицы, мы ели баранину; по крайней мере, мы съели ту ее часть, которая оказалась дожаренной, приправляя ее капорцами[17]. Если бы я только позволил Трэдльсу, то он, превратись в совершеннейшего дикаря, съел бы почти сырое мясо, лишь бы показать, насколько он доволен обедом. Но я не допустил, чтобы подобная жертва была принесена на алтарь дружбы, и мы вместо этого поели холодной свиной грудинки, к счастью обнаруженной в кладовой.
Моя бедная маленькая женушка сначала очень было огорчилась, думая, что я недоволен. Но потом, увидев, что я и не думаю сердиться, пришла в такой восторг, что и мое смущение по поводу неудачи с устрицами скоро рассеялось, и мы провели приятный вечер. Дора сидела, опершись ручкой на мой стул, и, в то время как мы с Трэдльсом попивали вино, то и дело шептала мне на ухо, как хорошо с моей стороны не быть злым, ворчливым старикашкой. Затем она напоила нас чаем и при этом так мило хлопотала, точно играла в куклы, что я не обратил внимания, каков был этот напиток. После чая мы с Трэдльсом сыграли в карты, а Дора пела нам, аккомпанируя себе на гитаре, и мне казалось, что наша любовь и свадьба — прекрасный сон и вечер, когда я впервые слушал ее пение, все еще длится.
Когда Трэдльс ушел и я, проводив его, вернулся в гостиную, моя женушка придвинула свой стул к моему и села рядом со мной.
— Знаете, Доди, я очень огорчена, — начала она. — Не потребуете ли вы поучить меня?
— Сначала я сам должен поучиться. Я знаю не больше вашего, моя любимая, — ответил я.
— Ну, вы-то можете выучиться, — возразила она, — вы ведь умный, такой умный!
— Пустяки, моя мышка!
После долгого молчания моя женушка промолвила:
— Мне бы уехать на год и пожить это время с Агнессой.
Она положила свои руки мне на плечо, уткнулась в них подбородком и спокойно глядела на меня своими голубыми глазками.
— Почему? — спросил я.
— Мне кажется, она могла бы исправить меня, и я многому научилась бы у нее.
— Все в свое время, моя любимая. Вспомните, что на Агнессе уже много лет лежит забота об отце. Еще будучи почти ребенком, она уже была той Агнессой, которую мы знаем.
— А скажите, будете ли вы называть меня так, как мне хочется? — вдруг, не меняя позы, спросила Дора.
— Как? — улыбаясь, поинтересовался я.
— Это глупое прозвище, — промолвила она, встряхнув локонами: — называйте меня «женой-деткой».
Я, смеясь, спросил мою жену-детку, откуда взялась у нее такая фантазия.
— Я вовсе не хочу сказать, глупый вы мальчик, что вы должны называть меня этим прозвищем, а не Дорой, — мне только хочется, чтобы вы так думали обо мне. Собираясь рассердиться на меня, скажите себе: «Да это ведь только жена-детка!» Когда я буду очень разочаровывать вас, подумайте; «Я ведь знал, давно знал, что она будет только женой-деткой!» Когда вы увидите, что я не то, чем бы хотела быть и никогда не буду, подумайте: «Все же моя глупенькая жена-детка любит меня!» Так как в самом деле я люблю вас, Доди!
В первый момент я не отнесся серьезно к ее словам, думая, что она шутит, но я так ласково отозвался на них, что ее любящее сердечко радостно забилось, и, прежде чем на глазах ее высохли слезы, ее личико уже снова сияло улыбкой.
Она действительно была моей «женой-деткой»: сидя на полу возле пагоды, она один за другим дергала все колокольчики, чтобы наказать Джипа за его недавнее скверное поведение. А Джип, щуря глазки, лежал в дверях пагоды, головой наружу, слишком ленивый, чтобы далее сердиться.
Все-таки просьба Доры — помнить о том, что она только моя «жена-детка», — произвела на меня сильное впечатление.
Теперь, оглядываясь на то время, я вызываю из туманного прошлого тот горячо любимый образ, хочу, чтобы он еще раз повернул ко мне свою прелестную головку. Откровенно признаюсь, что сказанные Дорой тогда слова не перестают звучать в моем сердце. Конечно, в ту минуту я не понял всего их значения: ведь я был молод и неопытен. Но к ее наивной просьбе я не был глух.
Вскоре после этого Дора сказала мне, что она собирается стать «поразительной» хозяйкой. И действительно, она почистила аспидные дощечки, очинила карандаш, купила необъятную расходную книгу, заботливо сшила ниткой все листы поваренной книги, изодранные Джипом, и вообще делала отчаянные усилия «быть хорошей», как она называла это. Но цифры проявляли прежнее упрямое нежелание складываться. Когда она с трудом заносила в свою расходную книгу две-три обширные записи, Джип, прогуливаясь по странице, смазывал все своим хвостом. Ее маленький средний пальчик правой руки весь пропитывался чернилами, и это, кажется, был единственный результат всех ее усилий.
Иногда вечером, когда я оставался дома и работал, — а теперь я немало писал и начинал понемногу приобретать имя в литературе, — я откладывал перо и наблюдал, как моя «жена-детка» старалась «быть хорошей». Прежде всего она приносила свою необъятную расходную книгу и с глубоким вздохом клала ее на стол. Потом она раскрывала ее на том месте, где вчера похозяйничал Джип, и звала его полюбоваться на то, что он натворил. Это доставляло Джипу развлечение, а его носу, пожалуй, немного чернил в наказание. Затем она приказывала Джипу немедленно лечь на стол в позе льва, — это была одна из его штучек, хотя, на мой взгляд, сходство со львом далеко не было разительным, — и если он бывал в послушном настроении, то повиновался этому приказу. Затем она брала перо и начинала писать. В пере оказывался волосок. Она брала второе перо и начинала писать, но перо делало кляксы. Она брала третье перо и начинала писать, тихонько-тихонько приговаривая: «О, это перо скрипит, оно помешает Доди!» Наконец она совсем бросала эту досадную работу и откладывала в сторону расходную книгу, притворно замахнувшись на «льва».
Когда же она бывала в очень спокойном и серьезном настроении, то усаживалась за аспидные дощечки и корзиночки со счетами и другими документами, более всего похожими на папильотки, и с их помощью старалась чего-то добиться. Очень тщательно она сравнивала их друг с другом, делала записи на дощечках, стирала их, снова и снова пересчитывала все пальцы левой руки от мизинца до большого пальца и обратно. И при этом у нее был такой огорченный унылый вид, казалась она до того несчастной, что мне была больно смотреть на ее всегда сияющее, а теперь омраченное из-за меня личико. И я тихонько подходил к ней и спрашивал: