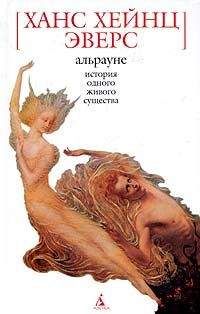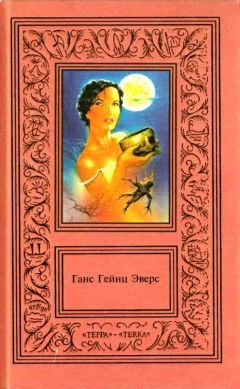Ознакомительная версия.
Она встала, вопросительно посмотрела на него, все еще дрожа от страха. «Правда, правда? – прошептала она. – Всего на два месяца?»
Он ответил: «Конечно, Фрида, – зачем же мне лгать?»
Она схватила его руку – лицо ее стало вдруг счастливым и радостным. «Я вам так благодарна, – сказала она. – Теперь все хорошо, раз я имею право вернуться».
Она поклонилась и пошла к дому. Но потом вдруг остановилась и вернулась обратно.
– Еще одно, господин доктор, – сказала она. – Альрауне сегодня утром дала мне чек, но я разорвала его, потому что… потому что – словом, я разорвала его. Теперь же мне нужны деньги. К ней я не пойду – она станет меня спрашивать, а мне не хочется, чтобы она спрашивала. Поэтому – не дадите ли мне денег лучше вы?
Он кивнул: «Конечно, дам. Но разрешите спросить, почему вы разорвали чек?»
Она посмотрела на него и пожала плечами: «Деньги были бы мне больше не нужны, если бы мне пришлось уйти отсюда навсегда…»
– Фрида, – медленно произнес он, – и куда бы вы пошли?
– Куда? – горькая улыбка заиграла у нее на тонких губах. – Куда? Той же дорогой, какой пошла Ольга. С той только разницей, господин доктор, что я наверняка достигла бы цели.
Она поклонилась, повернулась и исчезла в густой аллее парка.
Рано утром, когда просыпалось юное солнце, он, накинув кимоно, выходил из своей комнаты. Проходил в сад, шел по дорожке к питомнику роз, срезал Boule de Neige и Mervellinr de Lyon, потом сворачивал влево, где возвышались зеленые лиственницы и серебристые ели.
На берегу озера сидела Альрауне – в черном шелковом плаще, – сидела, крошила хлеб и бросала крошки золотым рыбкам. Когда он подходил, она сплетала из бледных роз венок – умело и быстро – и венчала им свои локоны. Сбрасывала плащ, оставалась в легкой кружевной сорочке – и плескалась голыми ногами в прохладной воде.
Говорили они мало. Но она дрожала, когда его пальцы касались слегка ее шеи, когда его близкое дыхание скользило по ее щекам. Медленно снимала она с себя последнее одеяние и клала его на бронзовых русалок. Шесть наяд сидели вдоль мраморной балюстрады – лили в озеро воду из сосудов и чаш.
Вокруг них всевозможные звери: огромные омары и лангусты, черепахи, рыбы, водяные змейки и рептилии, в середине же на трубе играл тритон, а вокруг него морские чудовища изрыгали в воздух высокие струи фонтана.
– Пойдем, мой дорогой, – говорила она.
Они входили в воду, вода была очень холодной, и он слегка дрожал. Губы его синели, по всему телу пробегали мурашки, приходилось быстро плескаться и все время двигаться, чтобы согреть немного кровь и привыкнуть к холодной воде. Она же не замечала ничего, тотчас же осваивалась, как в родной стихии, и смеялась над ним. Она плавала, словно лягушка.
– Открой краны, – кричала она.
Он открывал – и возле берега у статуи Галатеи в четырех местах подымались легкие волны, зыбились сперва, потом подымались все выше и выше, становились четырьмя серебряными каскадами, сверкавшими на утреннем солнце мелкими брызгами. Она входила в воду и становилась под этот каскад. Стройная, нежная. И долго ее целовали его глаза. Безупречно было сложено ее тело – точно высеченное из паросского мрамора с легким желтоватым оттенком. Только на ногах виднелись странные розовые линии.
«Эти линии погубили доктора Петерсена», – подумал он.
– О чем ты думаешь? – спросила она.
Он ответил: «Я думаю о том, что ты Мелузина. Взгляни на этих наяд и русалок – у них нет ног. У них длинный чешуйчатый хвост, у них нет души, у этих русалок. Но говорят, они все же могут полюбить смертного. Рыбака или рыцаря. Они любят так сильно, что выходят из холодной стихии на землю. Идут к старой колдунье или волшебнику, тот варит им страшные яды – и они пьют. Он берет острый нож и начинает их резать. Им больно, страшно больно, – но Мелузина терпит страдания ради своей великой любви. Она не жалуется, не плачет, но наконец от боли теряет сознание, а когда затем пробуждается – хвоста уже нет, она видит у себя прекрасные ноги – словно у человека. Остаются только следы от ножа искусного врача».
– Но все же она остается русалкой? – спросила Альрауне. – Даже с человеческими ногами? А волшебник не вселяет в нее душу?
– Нет, – сказал он, – на это волшебник не способен. Однако про русалок говорят и еще кое-что.
– Что? – спросила она.
Он рассказал: «Мелузина обладает страшною силою лишь до тех пор, пока ее никто не коснулся. Когда же она опьяняется поцелуями любимого человека, когда теряет свою девственность в объятиях рыцаря, – она лишается и своих волшебных чар. Она не приносит уже счастья, богатства, но за нею по пятам не ходит больше и черное горе. С этого дня она становится простой смертной…»
– Если бы так было в действительности, – прошептала она.
Она сорвала белый венок с головы, подплыла к тритонам и фавнам, к наядам и русалкам и бросила в них цветы роз.
– Возьмите же, сестры, возьмите, – засмеялась она. – Я – человек.
В спальне Альрауне стояла большая кровать под балдахином. В ногах возвышались две тумбы, на них чаша с золотым пламенем. По бокам резьба: Омфала с Геркулесом, Персей в объятиях Андромеды, Гефест, ловящий в свои сети Ареса и Афродиту, гроздья дикого винограда, голуби и крылатые юноши. Странная кровать была покрыта позолотой – ее привезла когда-то из Лиона мадемуазель де Монтион, ставшая женой его прадеда.
Он увидел, что Альрауне стоит на стуле у изголовья постели – с тяжелыми клещами в руках.
– Что ты делаешь? – спросил он.
Она засмеялась: «Подожди, сейчас будет готово».
Она колотила и срывала золотого амура, витавшего у изголовья постели с колчаном и стрелами. Вытянула один гвоздь, другой, схватила божка и стала вертеть его в разные стороны – пока не сняла. Потом положила его на шкаф. Взяла человечка-альрауне, снова влезла на стул и при помощи проволоки и бечевки укрепила у изголовья постели. Спрыгнула вниз и осмотрела свое произведение.
– Как тебе нравится? – спросила она.
– К чему он здесь? – сказал Франк.
Она заметила: «Тут он на месте. Золотой амур мне противен: он для всех и для каждого. Мне хочется, чтобы возле меня был Галеотто, мой человечек».
– Как ты его называешь? – спросил он.
– Галеотто, – разве не он соединил нас? Так пускай же висит тут, пусть смотрит на наши ночи.
Иногда они ездили верхом – по вечерам или даже ночью, когда светила луна; ездили к «Семи горам», и в Роландзек, и дальше вдоль Рейна. Однажды у подошвы «Dracenfels» а они заметили белую ослицу: хозяева отдавали ее для прогулки в горы. Франк Браун купил ее. Это было совсем еще молодое животное – белое, как только что выпавший снег. Ее звали Бианкой. Они взяли ее с собою позади лошади, надели длинную веревку, но животное не хотело идти, уперлось передними ногами, словно упрямый мул.
Наконец они нашли средство заставить ее идти следом за ними. Они купили пакет сахару, сняли с Бианки веревку, пустили на свободу и бросали позади себя один кусок сахару за другим. Ослица бежала за ними, не отставая, обнюхивала их гетры.
Старый Фройтсгейм вынул трубку изо рта, когда они подъехали ближе, с удовольствием сплюнул на землю и улыбнулся. «Осел, – прошамкал он, – новый осел. Скоро уже тридцать лет у нас в конюшне не было осла. Вы помните, молодой барин, как я вас учил ездить верхом на старом гнедом Ионафане?» Он притащил пучок молодой моркови и дал животному – погладил по косматой спине.
«Как ее зовут, молодой барин?» – спросил он. Тот назвал ее имя.
«Пойдем, Бианка, – сказал старик, – тебе будет хорошо, мы с тобой станем друзьями». Он снова обратился к Франку Брауну. «Молодой барин, – сказал он, – у меня в деревне трое внучат, две девочки и мальчик. Это дети сапожника, он живет по дороге в Годесберг. По воскресеньям они иногда навещают меня. Можно их покатать на осле? Только тут, по двору?»
Тот кивнул головою, но не успел еще ответить, как Альрауне крикнула: «Старик, почему ты не спрашиваешь позволения у меня? Это ведь мое животное – мне его подарили. Но я разрешаю тебе катать детей – даже по саду, когда нас нет дома».
Ее поблагодарил взгляд друга – но не старого кучера. Он посмотрел полунедоверчиво-полуудивленно и пробормотал что-то несвязное. Повел ослицу в стойло, позвал конюха, познакомил его с Бианкой и повел ее к лошадям. Показал ей коровье стойло с неуклюжими голландскими коровами и молодым теленком. Показал собак, двух умных шпицев, старую дворняжку и юркого фокса, спавшего в стойле. Повел ее и в хлев, где огромная йоркширская свинья кормила своих девятерых поросят, – к козам и к курам. Бианка ела морковь и послушно шла за ним. Казалось, ей нравилось тут, у тен-Бринкенов.
…Часто после обеда из дому раздавался звонкий голосок Альрауне.
Ознакомительная версия.