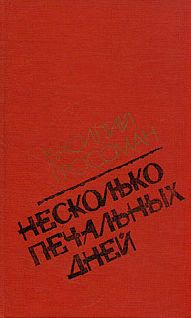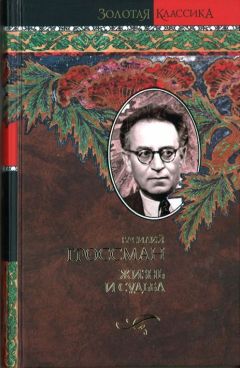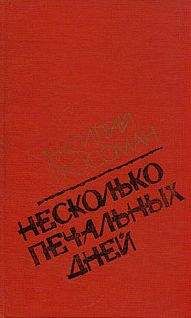И великое тепло дружбы дохнуло в лицо Богачеву, и он узнал драгоценную силу ее. Ночью он лежал на толстом матраце и отдувался от жары – его насильно накрыли несколькими одеялами и шинелями. Он слышал дыхание товарищей – он их узнавал по этому дыханию: ведь еще за Львовом они спали вместе в лесу, и было известно, кто храпит, кто произносит невнятные фразы и грозно отдает команду, кто спит по-младенчески тихо.
Николай Богачев не спал до утра. Он думал о друзьях, о прекрасной земле, за которую отдал свою кровь, о матери, о родном городе. Это была большая, вечная любовь, ибо всю силу ее он измерил лишь теперь, в суровые месяцы войны.
Юго– Западный фронт
1942
Покойный Николай Андреевич работал главным инженером на знаменитом казанском заводе. С ним кроме жены и двух сыновей жила мать Анна Гермогеновна и племянник Левушка. Левушка когда-то болел скарлатиной с осложнениями и после этого никак не мог выучиться считать до десяти, боялся заходить в столовую, если там сидели посторонние.
Телеграмму о смерти брата принесли утром, когда Марья Андреевна стояла в передней и смотрела в почтовый ящик – белеет ли сквозь дырочки конверт. Она ждала письма от мужа из Средней Азии. Звонок прозвучал внезапно, над самым ухом. Она в полутьме передней прочла, «скончался» – у нее захватило дыхание, но тут же до сознания дошло, что телеграмма из Казани. Умер брат, Николай Андреевич. Против воли она почувствовала легкость:
– Гриша жив!
Она любила сына, мать, брата, но все это было несравнимо с ее чувством к Грише. Она поняла: жить без Гриши она не сможет.
Войдя в комнату, она подошла к кроватке Сережи и сказала:
– Бедный дядя Коля умер.
Сережа открыл глаза и улыбнулся бледным полным личиком.
И вдруг она вспомнила: как-то в детстве отец наказал ее. Весь вечер она плакала, к ней подошел Коля и сунул в руку холодный, тяжелый апельсин.
Марья Андреевна вышла в соседнюю комнату, громко позвала:
– Коля!
На похороны Марья Андреевна не поехала – у Сережи поднялась температура, доктор нашел в горле серые налеты. Она послала телеграмму: «Выезд откладываю, подозрение дифтерита Сережи».
Марья Андреевна написала письмо матери и жене покойного брата: «Милые, любимые, будьте мужественны, мамочка, вас особенно прошу, помните, что я и Гриша…»
Ночью ей вспоминался брат – он приезжал два месяца назад в командировку. Пока он жил в Москве, квартира напоминала универмаг. Николай Андреевич покупал книги, боты и вязаную кофточку для матери, прованское масло, электрический утюг, копченую колбасу, ситец в подарок домашней работнице, валенки для слабоумного Левушки, любившего зимой расчищать снег во дворе.
Марья Андреевна вспомнила, что, усадив Николая Андреевича в Гришин «ЗИС», она в душе была довольна. Гриша, вернувшийся вечером с заседания, прошелся по комнатам и сказал:
– Вот и снова порядок. – Он ничего больше не сказал, но теперь она ужасалась: ведь оба они радовались отъезду Николая Андреевича.
Она хотела перечесть его письма, но вспомнила, что Гриша всегда уничтожал старые письма.
Был такой маленький случай. Брат купил два билета на «Пиковую даму». Марья Андреевна, посмотрев на пиджак брата, на тонкий узелок его галстука и на концы воротничка, прикрепленные булавкой с шариком, подумала, что все будут поглядывать на них, как на провинциалов, и отказалась пойти.
Утром домашняя работница Антонина Романовна пошла получать анализ и позвонила по телефону:
– Леффлеровских палочек нет, одни стрептококки.
До революции Антонина Романовна владела мастерской дамских шляп. Оставшись без средств, она поступила в домашние работницы к Марье Андреевне Лобышевой. К Лобышевым она быстро привыкла. Григорий Павлович спрашивал ее о здоровье. Марья Андреевна иногда слушала ее рассказы. Обычно Антонина Романовна говорила:
– Ах, ужас, сегодня с одной дамой мы стояли за кислой капустой, я едва узнала свою заказчицу – вдову генерала Маслова. Она до сих пор живет от продажи своих вещей в комиссионные магазины, и представьте, ей семьдесят один год, и вот каждый выходной день играет на бегах.
Весь мир старушек, с сумочками, в потертых фиолетовых шубах, в горжетках, в шляпах со сломанными перьями, с лорнетами, но в то же время в валенках и нитяных варежках, был знаком ей: она знала сотни историй с грустным концом – о молодых дамах, некогда живших в особняках, занятых ныне яслями и амбулаториями.
Когда утром Антонина Романовна ушла, Марью Андреевну охватил страх. Она принялась звонить по телефону подругам. Но Шура Рождественская была на работе, Маруся Корф болела, а лучшей, закадычной подруги Матильды Серезмунд не оказалось в Москве: она уехала на пять дней в Узкое, в санаторий.
Марья Андреевна пошла в переднюю и открыла парадную дверь. Внизу кашляла лифтерша, на верхней площадке разговаривали женские голоса. Марья Андреевна послушала и, успокоившись, пошла в детскую.
Днем пришла телеграмма от матери: «Воздержись приездом, похороны сегодня, телеграфируй состояние Сереженьки».
– Я поеду, – решительно сказала Марья Андреевна.
Но Антонина Романовна сказала:
– Я не останусь одна с больным ребенком. Как хотите, но я не соглашаюсь, категорически.
Марья Андреевна подчинилась. Утром наконец пришло письмо от Гриши. Он писал: «Такое синее небо только на верещагинских картинах – помнишь, в Третьяковке, где Индия. Грустно, ты и Сережка в ноябрьской слякоти, а здесь ходят в белом, цветы на улицах». Марья Андреевна читала письмо мужа, и мрак, в который она была погружена в последние дни, словно стал проясняться. Она вспомнила о предложении перевести для журнала роман американского писателя, вспомнила, что Гриша хотел в начале марта поехать с ней к морю. Она подумала: «Как все переплетено в жизни!»
Она подошла к зеркалу.
«Можно дать не меньше сорока пяти», – подумала Марья Андреевна, но не стала пудриться, а произнесла:
Сулит мне труд и горе
Грядущего волнуемое море…
Она пошла в кабинет и до ночи работала. Она вела общественную работу в профсоюзе работников издательств, и ей приходилось участвовать в разборе запутанных, конфликтных дел.
С утра Марья Андреевна утла по делам. Ей не приходилось вешать табеля в учреждении, но работы у нее было много. Она переводила, читала на курсах по повышению квалификации учителей, консультировала в библиотечном институте, готовила кандидатскую диссертацию.
Марье Андреевне нравилось, что ее, молодую, красивую женщину, уважают и даже побаиваются слушатели на курсах, ей нравилось спорить на педагогических советах.
Она была честолюбива, и ее всегда удивляло, что некоторые ее знакомые, занимавшие высокое положение, собираясь по вечерам, дурачились, вспоминали всякие смешные случаи, философствовали о старости, молодости. Ей нравилось показывать себя занятым человеком, и она с удовольствием произносила: «Какие там театры» или: «Что вы, где уж мне читать для своего удовольствия».
Марья Андреевна вышла из дому и пошла через мост. Асфальт, гранит набережной, большое небо над Кремлем – все было серым и суровым. Марья Андреевна пошла по набережной вдоль Кремлевской стены. Звезда над кремлевской башней светилась на темном небе, словно уже наступили сумерки. Сквозь зубцы стены была видна на склоне кремлевского холма все еще зеленая трава, уходил в темное небо купол Ивана Великого.
Из– под моста выплыл белый пассажирский пароход, и Марье Андреевне вспомнилось, как в 1938 году она с Гришей ехала пароходом из Москвы в Астрахань. Пароход пришел в Казань ночью, Гриша спал, а она не ложилась -хотела опустить письмо на пристани; ей и в голову не приходило, что брат ночью приедет на пристань. Брат окликнул ее – он был в белом кителе и белой фуражке. Гришу она не будила, так как он днем, загорая на верхней палубе, сжег спину и с трудом уснул. Николай Андреевич передал ей ореховую палку с нарезанными на коре квадратами, над которой, как он сообщил, Левушка трудился около двух недель. Потом они гуляли по дебаркадеру, она уговаривала Колю ехать домой, ей ужасно хотелось спать, но он говорил: «Ничего, Машенька, мне приятно с тобой гулять, я ведь днем и ночью в цехах, а здесь так прохладно».
И сейчас, глядя на пароход, шедший в затон, на закрытые желтыми жалюзи окна в каютах, на матроса в полушубке, сидящего в плетеном кресле, Марья Андреевна подумала: «Умер, умер…»
Она вернулась домой вечером, утомленная и довольная. С ней заключили договор на перевод и деньги выписали тотчас же, бухгалтер с большой предупредительностью отнесся к ней.
Ее ждало письмо от матери. Она писала, что Николай Андреевич умер внезапно, на заводе. «Весь день приходили рабочие прощаться с Колей, – писала мать, – почти все плакали, и не только старики, молодежи много, уборщицы из заводской конторы, сторожа».