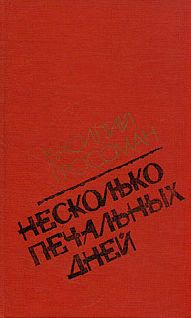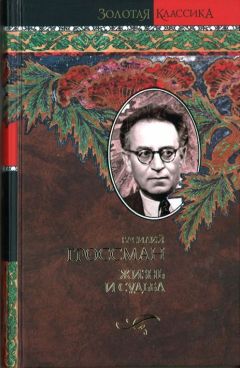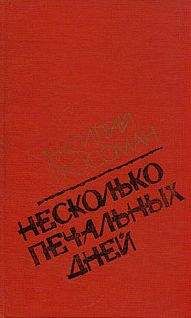И сейчас, глядя на пароход, шедший в затон, на закрытые желтыми жалюзи окна в каютах, на матроса в полушубке, сидящего в плетеном кресле, Марья Андреевна подумала: «Умер, умер…»
Она вернулась домой вечером, утомленная и довольная. С ней заключили договор на перевод и деньги выписали тотчас же, бухгалтер с большой предупредительностью отнесся к ней.
Ее ждало письмо от матери. Она писала, что Николай Андреевич умер внезапно, на заводе. «Весь день приходили рабочие прощаться с Колей, – писала мать, – почти все плакали, и не только старики, молодежи много, уборщицы из заводской конторы, сторожа».
В письме словно был скрытый вызов: мать писала, гордясь любимым сыном и требуя преклонения перед ним. И Марья Андреевна, читая письмо, ощутила раздражение. Но она тут же покаялась в своем скверном чувстве.
– «Какая грусть, какой раскол в кипении веселом», – повторяла она застрявшую в мозгу фразу.
Ей стало жалко родных в Казани, подруг, Гришу.
«Бедная моя Матильда, – думала она, – красивая, умная и так одинока, одна лишь у нее работа, работа, работа…»
Григорий Павлович Лобышев приехал скорым ташкентским поездом. Ездить в командировки ему приходилось раза два-три в год, и в семье выработался ритуал встречи. Но в этот раз Григория Павловича встретила Антонина Романовна.
– Где Марья Андреевна? – быстро спросил он. – Случилось что? Больна? Сережа?
– Нет, нет, – сказала Антонина Романовна, – она вчера в Казань уехала. Там всё несчастья и несчастья. Умер ведь Николай Андреевич, его уж похоронили недели полторы. И вдруг опять телеграмма. Там с квартирой заводской осложнения, потом воспаление легких у Шуры… А у нас все благополучно, Сереженька здоров, спать уже лег.
Григорий Павлович прошел в столовую – стол был накрыт белой крахмальной скатертью, цветы стояли на столе, графин с коньяком.
– Ах ты, жил, жил и умер, – проговорил Григорий Павлович, – и всего на четыре года старше меня.
И милая квартира, о возвращении в которую он так мечтал, показалась ему из-за отъезда Маши пустой и угрюмой. А он-то радовался, представлял себе, как Маша нарядится в роскошный халат, купленный им на импортном складе Узбекшелка.
– Эх, ей-богу…
Он пошел посмотреть спящего Сережу.
– Болел он, бедненький, – сказала Антонина Романовна.
Григорий Павлович созвонился со своим заместителем Чепетниковым и условился, что тот приедет.
– Событий особых не было? – спросил он. – Ну да ладно, приезжай.
Позвонил телефон. Звонила Матильда.
– Ты только что приехал, а я позавчера из Узкого, – сказала она. – Маша просила о тебе позаботиться.
Григорий Павлович уважал ученость Матильды, считал ее хорошим членом партии. Но он всегда говорил с ней насмешливым тоном. И теперь он сказал:
– Ну что ж, приступай, Матильдус, к исполнению принятых обязанностей. Кати к нам… Нет, нет, не поздно, тут еще по делу должен приехать Чепетников… Кроме шуток, я очень буду рад, настроение собачье, буквально.
Вновь затрещал телефонный звонок. Это говорил нарком.
– С приездом тебя. Хорошо, что вернулся… Мне сказал только что Чепетников… Завтра? Завтра мне в Кремль… Я понимаю… В одиннадцать… Никак не больше пятнадцати минут… Ну, отдыхай, отдыхай.
А еще через несколько минут позвонил старый товарищ – Мохов.
– Приезжай, брат, тут ты увидишь одну высокую белокурую даму, – сказал Григорий Павлович, зная, что Мохову нравится Матильда.
Плохое настроение прошло. Григория Павловича привели в обычное возбуждение эти один за другим раздавшиеся телефонные звонки. Приподнятое, «московское» чувство, когда кажется, что ты всем нужен, что нет пустоты вокруг тебя.
В ожидании он вытащил из ящика стола груду старых фотографий. Во времена гражданской войны снимались в шинелях и в буденовках, должно быть, оттого, что всегда ездили. И снимались очень часто, верно, оттого, что легко завязывалась дружба и часты были разлуки. Рассматривая фотографии, Григорий Павлович всегда волновался. Лишь двое из его многочисленных армейских друзей жили в Москве – Димка Мохов и Абрашка Гуральник. Он рассматривал фотографии товарищей, важно опиравшихся на шашки. Иных уж не было на свете, иные были далече. Чего только не пришлось перенести им – голод, пулеметный огонь белых, вероломство бандитов, сыпняк… И сражались они в возрасте, когда современные молодые люди едва начинают посещать спектакли и фильмы, на которые допускаются дети старше шестнадцати лет.
Нынешние снимки были светлее и все относились к курортным временам: группа из санатория «За индустриализацию», или «Имени Семнадцатого партсъезда»; Теберда, Гагры, Сочи. Снимались на мраморных ступенях, подле кактусов в каменных вазах, на террасах, в плетеных креслах, на берегу моря. Странно было: эти лежащие на пляже полнотелые люди когда-то тоже ходили в буденовках, с маузерами и шашками на боку.
Особенно было приятно вспомнить прошлое, когда приезжали Мохов и Абрашка. Парням в шинелях было девятнадцать лет, а молодой Советской республике всего лишь полтора года. Сколько наивных мыслей было у них, какая подчас смешная путаница происходила у них в головах! Но как убежденны и мужественны были они, не колеблясь отдавали жизнь за революцию.
Он любил то ушедшее время, но, пожалуй, не меньше любил он свое настоящее, пору зрелости, пору, когда Советской республике шел двадцать третий год.
Обстановка суровой московской деловитости, ощущение силы стали необходимы ему, звонок из гаража по утрам, бесшумный ход автомобиля, негромкий голос секретаря, доклады, заседания, споры; его радовало, что за время его работы в наркомате построены комбинат и два мощных завода. Стоило уехать на несколько недель из Москвы, как он начинал тосковать. И в нынешнюю поездку обратная дорога казалась бесконечной – в ноябрьском сумраке плыла мимо окон равнинная мокрая земля. Скорей бы увидеть быстрые людские толпы, рубиновые блики светофоров, проехать по Красной площади, где в сиреневом вечернем дыму стоит Василий Блаженный.
Первым приехал Чепетников.
Чепетникова выдвинули на работу в наркомат в начале 1939 года. Раньше он работал в Татреспублике. Лобышеву казалось, что Чепетников холост, живет в общежитии и по вечерам чистит ваксой ботинки, а потом сидит на койке и читает журнал «Спутник агитатора». Когда Чепетников заболел, Лобышев навестил его; оказалось, что в двух комнатах Чепетникова живут жена, трое детей и дед, спавший на диване в столовой в валенках и ватной кацавейке. Пока Лобышев разговаривал с Чепетниковым, из соседней комнаты слышался оживленный женский голос:
– Сколько же ей детских польт купить, он же поедет скоро, а в Казани детских польт совсем нет.
Между Лобышевым и Чепетниковым установились плохие отношения. Однажды на заседании коллегии Лобышев сказал Чепетникову, что тому нужно «ночи не спать, гореть на работе, а не заниматься мелкой ерундой». Его поддержал нарком. Лобышев думал, что испортил отношения с замом. На следующий день Чепетников сказал ему:
– Спасибо за товарищескую критику. Правильно ты подошел к вопросу, не ту я взял установку.
«До чего ловок, сукин сын, неотесанный, темный, но до чего ловок», – подумал Лобышев даже с некоторым восхищением.
Хотя Григорию Павловичу было интересно узнать, прошла ли смета, как решилось дело старшего референта, которого обвиняли в даче неточных сведений, он начал рассказывать первым.
Григорий Павлович не стал рассказывать о синеве неба, о бледных песках при лунном свете, о разговоре в поезде с красавицей узбечкой. Он сказал:
– Самое главное я тебе изложу в нескольких словах… – И рассказал о контрольных цифрах, данных хлопкоочистительным заводам, о расширении посевных площадей, о своем споре с председателем узбекского треста Рассуловым.
Слушая его, Чепетников поглядывал на фотографии.
Григорий Павлович внезапно спросил:
– А ты где воевал во время гражданской?
– Я? – Чепетников качнул отрицательно головой. – Да нигде.
– То есть как нигде?
– А так. Я поступил в двадцать шестом году на завод, а до этого в деревне жил.
– И неужели не участвовал в гражданской войне?
– Я ж говорю, скрывать бы не стал, – обиженно сказал Чепетников, – если хочешь, проверь по личному делу.
– Да ну тебя, – сказал Григорий Павлович, – я просто удивился.
– А чего удивляться. Я в партию в тридцать четвертом году пошел.
– Да, – сказал Григорий Павлович, – а вот я с двадцатого.
– Стаж.
Они помолчали.
– Ну, как в наркомате? – спросил Григорий Павлович.
– Да как будто все в порядке. Твоего Савельева сняли с передачей дела в прокуратуру.
– А кредиты по текстильному комбинату?
– Прошли в Совнаркоме.