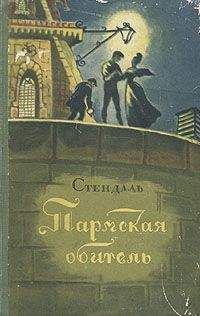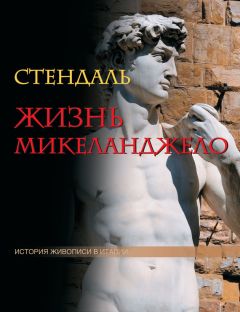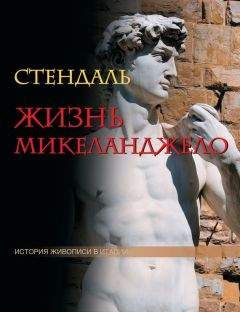Фабрицио, — я останусь торчать, как столб. Дурацкое положение». В эту минуту он был в десяти шагах от лакея, тот перестал петь. Фабрицио заметил в его глазах страх. «Чего доброго, повернет лошадь обратно…» Не приняв еще никакого решения, Фабрицио подскочил и схватил поджарую лошадь под уздцы.
— Друг мой, — сказал он лакею, — я не какой-нибудь грабитель. Вы получите от меня двадцать франков, но за это я позаимствую у вас лошадь. Меня убьют, если я не удеру. За мной гонятся четыре брата Рива, знаменитые контрабандисты, — вы их, конечно, знаете. Они застали меня в спальне своей сестры; я выпрыгнул в окно и прибежал сюда. Они ищут меня в лесу с ружьями и собаками. Я спрятался в дупло вон того толстого каштана, увидев, что один из братьев перешел через дорогу; собаки нападут на мой след. Я сяду на вашу лошадь, проскачу галопом целое лье в сторону от берега Комо, поеду в Милан и брошусь к ногам вице-короля. Если вы добровольно одолжите мне лошадь, я оставлю ее на почтовой станции вместе с двумя золотыми для вас. Но если вы окажете хоть малейшее сопротивление, я пристрелю вас вот из этого пистолета. А если вы пошлете мне вдогонку жандармов, мой двоюродный брат граф Алари, шталмейстер императора, прикажет переломать вам кости.
Импровизируя свою речь, Фабрицио произносил ее самым миролюбивым тоном.
— А впрочем, — добавил он смеясь, — мое имя не секрет. Я — маркезино Асканьо дель Донго; наше поместье Грианта находится неподалеку отсюда. Ну, черт подери! — сказал он, повышая голос, — отдадите вы лошадь?!
Ошеломленный лакей не произнес ни слова. Фабрицио переложил пистолет в левую руку, подхватил узду, которую лакей выпустил из рук, и, вскочив на лошадь, пустил ее галопом. Отъехав шагов триста, он вспомнил, что позабыл дать обещанные двадцать франков, и остановился. На дороге по-прежнему никого не было, кроме лакея, скакавшего за ним. Фабрицио замахал платком, подзывая его, и, когда тот подъехал на пятьдесят шагов, бросил на дорогу горсть серебра и двинулся дальше. Издали он увидел, что лакей подбирает деньги. «Вот поистине благоразумный человек! — весело подумал Фабрицио. — Ни одного лишнего слова!»
Он поскакал по направлению к югу, сделал привал в уединенном домике и через несколько часов снова пустился в путь. В два часа дня он был на берегу Лаго-Маджоре; вскоре он увидел свою лодку, сновавшую по озеру, подал условленный сигнал, и она подплыла к нему. Не видя вокруг ни одного крестьянина, чтобы передать ему лошадь, он отпустил благородного скакуна на волю. Через три часа Фабрицио уже прибыл в Бельджирате. В этом дружественном уголке он остановился отдохнуть; расположение духа у него было веселое: все удалось как нельзя лучше. Осмелимся ли мы открыть истинную причину этой веселости? Его дерево росло превосходно, а душу ему освежило глубокое умиление от встречи с аббатом Бланесом.
«Неужели старик верит всему, что он предсказал мне, или же мой братец изобразил меня якобинцем, человеком, не верящим ни в бога, ни в черта, способным на все, и он только хотел предостеречь меня от соблазна размозжить голову какому-нибудь скоту, который вздумает сыграть со мной скверную шутку?»
Через день Фабрицио вернулся в Парму и очень позабавил герцогиню и графа, описав им, по своей привычке с величайшей точностью, все путешествие.
По приезде Фабрицио заметил, что швейцар и все слуги во дворце Сансеверина в глубоком трауре.
— Какую мы понесли утрату? — спросил он у герцогини.
— Милейший человек, который назывался моим мужем, только что скончался в Бадене. Он оставил мне этот дворец, как было условлено, но в знак искренней дружбы добавил к нему по завещанию триста тысяч франков, и эти деньги очень меня смущают. Я не хочу от них отказываться в пользу его племянницы, маркизы Раверси, потому что она каждый день строит мне гнуснейшие козни. Ты знаток искусства, найди мне хорошего скульптора, — я на эти триста тысяч воздвигну герцогу гробницу.
Граф принялся рассказывать забавные истории о Раверси.
— Я всяческими благодеяниями старалась смягчить эту особу, — сказала герцогиня. — Но это напрасный труд. А всех племянников покойного герцога я сделала полковниками и генералами. В благодарность они каждый месяц пишут мне какие-нибудь мерзости в анонимном письме. Мне пришлось нанять секретаря, чтобы он читал такого рода письма.
— Эти анонимные послания еще не самый большой их грех, — сказал граф Моска. — Они целыми пачками изготовляют подлые доносы. Раз двадцать я мог бы привлечь к суду всю эту шайку, и вы, конечно, понимаете, ваше преосвященство, — добавил он, обращаясь к Фабрицио, — что мои судьи услужливо осудили бы их.
— Вот это все и портит, — возразил Фабрицио с наивностью, весьма забавной для придворного. — Лучше было бы, если б они судили по совести.
— Прекрасно! Поскольку вы совершаете поучительные путешествия, будьте любезны сообщите мне адрес таких судей. Я сегодня же перед сном напишу им.
— Будь я министром, подобное отсутствие честных людей среди судей просто оскорбляло бы мое самолюбие.
— Ваше преосвященство, вы так любите французов и даже когда-то оказали им помощь своей непобедимой рукой; однако вы позабыли одно из их мудрых изречений: «Убей дьявола, а не то он тебя убьет». Хотел бы я видеть, как бы вы сумели управлять пылкими людьми, которые по целым дням читают «Историю французской революции», если бы судьи выносили оправдательные приговоры тем, кому я предъявляю обвинение. Такие судьи дошли бы до того, что оправдывали бы отъявленных преступников и считали бы себя Брутами [74]. Но я хочу подразнить вас, — скажите, ваша щепетильная совесть ни в чем не может упрекнуть вас в этой истории с поджарой лошадью, которую вы бросили на берегу Лаго-Маджоре?
— Я твердо решил, — очень серьезно сказал Фабрицио, — возместить хозяину лошади все расходы по объявлениям в газете и прочие издержки по ее розыску; крестьяне, наверное, нашли ее и вернут. Я буду внимательно читать миланскую газету и, конечно, натолкнусь там на объявление о пропаже этой лошади, — я хорошо знаю ее приметы.
— Какое простодушие! — сказал граф Моска герцогине. — Ваше преосвященство, а что сталось бы с вами, — продолжал он смеясь, — если б, в то время как вы мчались во весь дух, позаимствовав лошадь, она бы споткнулась и упала?.. Вы очутились бы в Шпильберге, дорогой мой племянничек, и всего моего влияния едва хватило бы на то, чтоб уменьшили на шестьдесят фунтов вес кандалов, в которые вас бы там заковали. Вы провели бы в этом приятном месте лет двенадцать, ваши ноги, пожалуй, распухли бы, омертвели и пришлось бы их аккуратненько