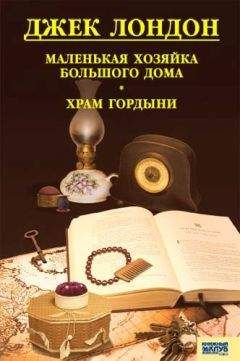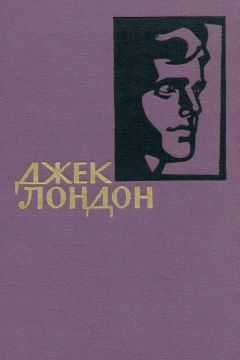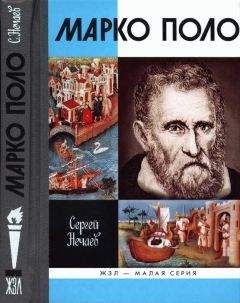Он взглянул и на мольберт, уверенный, что ничего нового на нем не увидит, но ошибся: перед ним стоял его собственный портрет. Он знал, что Паола иногда берет позу и контуры с какой-нибудь фотографии, а лицо заполняет на память. На этот раз она использовала очень удачный моментальный снимок с него, верхом. Снимок изображал Фурию, каким-то чудом оказавшуюся совершенно неподвижной, а на ней Дика, с шляпой в руке и чуть помятыми волосами. Лицо его было совершенно спокойно — он не знал, что его снимают, — он смотрел прямо на фотоаппарат. Профессионалу-фотографу не удалось бы получить большего сходства. Снимок Паола отдала увеличить и по нему работала. Но портрет уже далеко опередил фотографию, и Дик ясно различал штрихи, приданные ею самой.
Вдруг он вздрогнул и всмотрелся внимательнее. Разве это его выражение глаз и всего лица? Он снова взглянул на фотографию, — там этого выражения не было. Он подошел к зеркалу, несколько отвлекся, а затем стал думать о Паоле и Грэхеме, — и на лице его и в глазах появилось то же выражение. Не довольствуясь своим открытием, он вернулся к портрету и проверил его. Теперь он видел, что Паола знает. Паола знает, что он все знает. Она подметила у него это выражение, схватила его в минуту, когда он этого не сознавал, унесла в своей памяти и передала на полотно.
Послышались шаги, и Дик увидел, что к нему из гардеробной подходит горничная Паолы, китаянка Ой-Ли. Она его сначала не заметила, как будто о чем-то глубоко задумавшись. Он обратил внимание на то, как печально ее лицо, и его поразило, что исчезла характерная у нее легкая приподнятость бровей, выражающая точно полное сочувствие, усердие. Тут было не усердие, это было ясно. Она была чем-то подавлена, страшно подавлена. «Кажется, наши лица начинают выдавать нас», — подумал он.
— Доброе утро, Ой-Ли, — он спугнул ее. И в глазах ее, остановившихся на нем, он прочел сострадание. Значит, она знала! Из посторонних она была первая! Да, ведь этого можно было ожидать, она — женщина, и так часто бывает с Паолой наедине, кому, как не ей, угадать тайну своей хозяйки.
Губы Ой-Ли задрожали, и она заломила дрожащие руки, видимо, делая над собою усилие, чтобы заговорить.
— Мистер Форрест, — начала она, запинаясь, — вы, может быть, сочтете меня за глупую, но я все-таки хотела сказать. Вы очень добрый, вы были очень добры к моей старой матери. Вы ко мне добры давно… давно…
Она остановилась в нерешительности, облизала пересохшие губы. Затем дерзнула поднять глаза на него и продолжала:
— Миссис Форрест, она, мне кажется…
Но лицо Дика стало таким суровым, что она оробела и остановилась, покраснев, а Дик со стыдом сообразил, какие мысли она сейчас хотела высказать вслух.
— Очень хорошую картину пишет миссис Форрест, — сказал он, чтобы дать ей успокоиться.
Китаянка вздохнула и по-прежнему с состраданием долго смотрела на портрет Дика.
Она снова вздохнула, но Дик уловил холодность ее тона, когда она ответила:
— Да, картина миссис Форрест очень хорошая.
Она бросила на него быстрый испытующий взгляд, затем повернулась к мольберту и показала на глаза:
— Нехорошо, — сказала она, и в голосе ее послышалось осуждение, жестокость и даже гнев.
— Нехорошо, — повторила она через плечо, еще более сурово, выходя из комнаты к спальному портику Паолы.
Дик выпрямил плечи, как бы готовясь встретиться лицом к лицу с тем, что над ним висело. «Ну, что ж, это — начало конца. Ой-Ли уже знает. Скоро узнают другие, узнают все». И он как будто даже радовался этому, радовался, что скоро кончится это мучительное выжидание.
Но, уходя, он насвистывал веселую песню, давая понять Ой-Ли, что, насколько ему известно, у него все обстоит благополучно.
В тот же день, пока Дик уезжал кататься верхом с Фрейлигом, Мартинесом и Грэхемом, Паола потихоньку пробралась в комнаты Дика. Войдя в его спальный портик, она окинула взглядом ряды кнопок, доску со штепселями, соединяющими его со всеми частями имения и с большей частью Калифорнии, диктофон на подставке, аккуратно разложенные книги, журналы и сельскохозяйственные бюллетени отложенные для прочтения, пепельницы, папиросы, блокноты и термос.
Внимание Паолы приковала ее собственная фотография, единственная здесь, в портике. Она висела над барометрами и термометрами, то есть там, куда, как она знала, чаще всего смотрит Дик. Странная фантазия пришла ей в голову: она повернула смеющееся лицо к стене и перевела глаза от темной рамы к кровати и обратно, но сейчас же, будто испугавшись, снова повесила фотографию по-прежнему, смеющимся лицом к комнате. «Ей здесь место», — подумала она. И действительно, фотография как бы слилась со всем окружающим.
Потом ее глаза вдруг остановились на большом автоматическом револьвере в кобуре, висевшем на стене, недалеко от кровати, так, чтобы быть всегда под рукой. Она слегка потянула его: так она и думала, он вынимается легко — в этом Дик! На него можно положиться: как бы долго оружие ни лежало без употребления, он не позволит ему залежаться в кобуре. Вернувшись в рабочий кабинет, Паола медленно прошлась, поглядывая то на множество картотек, то на карты и справочники, то на ряды реестров по скотоводству и коневодству в прочных переплетах. Наконец, она дошла до его сочинений — ряд брошюр и статей, целых десять томов! Она добросовестно вдумывалась в заглавия: «Маис в Калифорнии», «Организация ферм», «Сельскохозяйственная бухгалтерия», «Ширы в Америке», «Истощение чернозема», «Почвоведение», «Люцерна в Калифорнии», «Калифорнийские урожаи», «Шортхорны в Америке». Последней книге она ласково улыбнулась, вспомнив оживленную полемику, когда Дик разделял и защищал дойных и убойных коров против тех, кто отстаивал новый тип коров, выполняющих оба назначения.
Она ладонью погладила корешки книг, прижалась к ним щекой и так постояла с закрытыми глазами. «Ах, Дик, Дик…», — шептала она, и нарождающаяся мысль замерла и погасла в охватившей ее неясной печали, потому что у нее не хватило смелости додумать ее до конца.
Этот письменный стол такой особенный, типичный для Дика! На нем не было ничего лишнего, никакого беспорядка, ни следов работы, только плоские проволочные корзиночки с написанными на машинке письмами, оставленными ему для подписи, и с толстой кипой желтых листков, на которых его секретари обычно записывали телеграммы, переданные по телефону из Эльдорадо. Она рассеянно просмотрела первые строки лежащей сверху телеграммы, но несколько слов неожиданно остановили ее внимание. Она перечитала еще раз, нахмурившись. А затем порылась в пачке, пока не нашла подтверждения: «Джереми Брэкстон убит, большого добродушного и веселого Джереми Брэкстона больше на свете не было». Его убили в горах, по дороге в Аризону, куда он пытался бежать с рудников. На него напала полупьяная, полуобезумевшая толпа мексиканских рабочих. Очевидно, Дику это стало известно два дня тому назад, но он не захотел огорчать ее. Кроме того, эта смерть означала и существенные денежные потери. Дела на рудниках серьезно ухудшались, а Дик молчал — в этом он весь!
Итак, Брэкстона уже нет в живых. В комнате вдруг стало свежее. Она почувствовала, что ее трясет. Такова жизнь — конец один, смерть. Снова ее охватил непонятный, смутный страх. Впереди… рок. Над кем он навис? Она не пыталась предсказывать. Достаточно самого сознания: нависает рок. Оно переполняло ее душу, и самый воздух в рабочем кабинете был точно насыщен угрозой.
— У птиц есть особая чувствительность, — говорил Терренс, взяв с подноса А-Ха коктейль, — и такая же чувствительность у нашей маленькой хозяйки.
Это было за час до обеда, и Грэхем, Лео и Терренс Мак-Фейн случайно встретились в бильярдной.
— Нет, Лео, — предупредил ирландец молодого поэта, — хватит с вас одной этой. У вас уже и так щеки разгорелись. Еще одна — и вас развезет, вы не имеете права в вашей юной голове смешивать красоту с крепкими напитками. Предоставьте пить старшим; чтобы пить, нужно иметь какое-то сродство с напитком. У вас его нет. Что же до меня…
Он опорожнил рюмку и еще раз провел языком по губам.
— Бабье пойло, — презрительно покачал он головой. — Мне не нравится, не жжет, и вкуса в нем никакого. А-Ха, голубчик, — позвал он китайца, — вы мне смешайте-ка настоящий, в длинном-длинном бокале. — И он горизонтально вытянутыми четырьмя пальцами показал, сколько ему налить, а на вопрос А-Ха, какого ему виски, ответил: — Шотландского, или ирландского, или бурбонского — это не важно, какой есть под рукой.
Грэхем кивнул китайцу и усмехнулся ирландцу.
— Меня вы не перепьете, Терренс. Я вашей проделки с О'Хэй не забыл.
— Вы должны понять, что это был просто несчастный случай, — ответил тот, — ведь всем известно, что раз человек не настроен пить, то спиртное на него действует, ударяет его, как обухом.