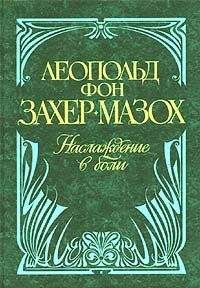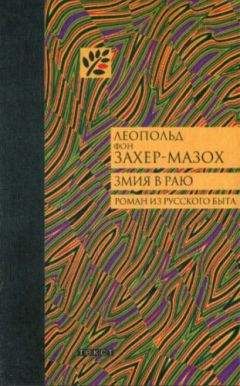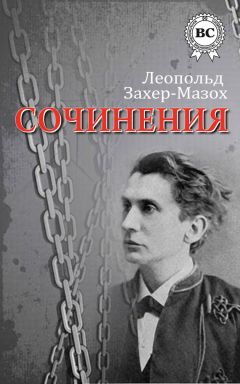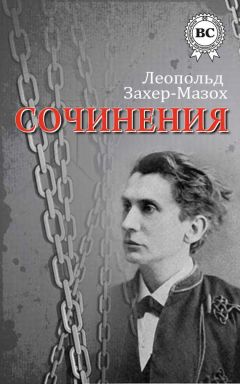Любовь Платона
Всегда с особенным удовольствием посещаю я семейство Тарновских. Какое-то своеобразное добродушие поражает вас в их доме. Все малейшие предметы, сам воздух пропитаны этим добродушием, не говоря о каменных стенах, окружающих господскую усадьбу, о старой, полинялой мебели, о животных и людях, которые как-то особенно приветливо смотрят на вас. Приятное и мирное ощущение охватывает душу, как скоро вдыхаешь эту благодатную атмосферу. Всюду свет и теплота, и мне кажется, что то и другое исходит от самой пожилой графини Каролины Тарновской. Посреди высоких шкафов с праотцовской деревянной мозаикой и полуживых слуг не раз случалось мне излить свое горе, свои заботы и преодолеть терзавшие меня сомнения и скорби, глядя на теплые, кроткие глаза графини и лаская на своих коленях ее черную кошку.
И нынче я отдыхал душою в ее доме. Я долго был в отсутствии и по возвращении на родину прежде всего отправился к графине, – и вот теперь она сидит напротив меня, держит мои руки в своих и заглядывает в мою душу своими голубыми глазами, от которых не скроешь ничего.
На дворе морозно. Стоит ясный, но холодный вечер, даже очень холодный. Две звезды глядят в окно; огонь в камине трещит и по временам весело светит на ковер, и мы болтаем с графиней. Есть что рассказать после долгой разлуки, а она в состоянии разрешить не один вопрос.
Графиня – это единственная женщина, которая, за исключением матери, внушает мне особое уважение; но, несмотря на весь свой авторитет, она вовсе не имеет внушительной наружности; она даже не высокого роста; это маленькая женщина, весьма деликатная, с миниатюрным лицом, обрамленным седыми волосами, но которое и в старости носит на себе следы изящества и красоты, красоты не столько физической, сколько душевной. Духовного свойства и та сила, которая высказывается в ее больших голубых глазах, глядящих на вас словно из иного мира. Эту духовную силу она передала и своему сыну, графу Гендрику, и вот теперь, когда она глядит на меня, мне так и чудится, что и глаза моего друга покоятся на мне.
– Что поделывает наш Платон? – живо спросил я графиню. – Вот уже более года, как я не имею никаких известий о нем.
– Более года? – отвечала графиня. – А в этом году много воды утекло; он развелся со своей женой.
– Со своей женой?! – вскричал я и невольно привстал со своего места. – У Гендрика жена? У нашего Платона жена? Да это решительно невозможно!
– Так вы и не знаете, что он женился?
– Ничего не знаю, положительно ничего.
– Сядьте же, – продолжала графиня. – Год тому назад он женился, и вот уже несколько недель, как он развелся со своей женой.
Я сел.
– Платон женился, развелся, – заговорил я, – извините, но я не могу собрать своих мыслей. Этот враг женщин…
– Он никогда не был врагом женщин, – прервала меня графиня.
– Значит, не был и философом? Я не могу объяснить себе женитьбу идеалиста, не соглашавшегося вкусить земных благ и видевшего в самой умной и прелестной женщине подобие обезьяны; нет, это решительно невозможно. Я так живо вижу его перед собою, когда, три года тому назад, я пожал ему руку на прощанье. В то время он еще не знал женщин. Однажды я спросил его: «Неужели ты никого не любил?» – «Нет, любил, но эта женщина была мужчина».
Графиня засмеялась.
– Я еще помню, – продолжал я, – как улыбка пробежала по его лицу при этих словах, детски-хитрая улыбка. На меня он всегда производил впечатление переодетой девушки: так поражали меня его нежность и приятность; ходил он всегда на цыпочках, часто краснел, закрывал несколько глаза, когда говорил, а руки его делали какие-то плавные движения, как будто он плавал. Он, видимо, избегал женщин, а с мужчинами обходился так деликатно и любезно, как мы обходимся с женщинами. Приятель он был такой, какого не скоро найдешь, всегда был рад пожертвовать собой для тех, кого любил.
Графиня ничего не ответила; пока я говорил, черная кошка ее с достоинством вошла в комнату, неслышно пробираясь на своих бархатных лапках, и затем одним прыжком очутилась на коленях у хозяйки, где, закрыв глаза, стала мурлыкать и вертеть хвостом. Кошку звали Мими, и такой превосходной кошки мне нигде не случалось видеть в течение всей своей жизни; это была в полном смысле кошачья красавица, а в желтых глазах ее было столько души, конечно кошачьей души, и столько ума и доброты, что невольно чувствовалось, глядя на нее, что и она знала горе и страдание; и действительно, будучи кошкой, она имела несчастье влюбиться в человека. После приветствия графине она вспрыгнула ко мне, и я стал гладить ее, снова обращаясь к ее госпоже:
– Итак, его отвращение от женщин было не более как застенчивостью?
– Нет, у него есть свои принципы, – возразила графиня.
– Принципы?
– Да, вообще на свете идеальных натур и чистых сердец более, чем думают. Только есть люди, которые так совестятся своей доброты, что скрывают ее, как будто скрывают какой-нибудь неблаговидный поступок. Вот и вы – не разыгрывайте передо мною пессимиста и волокиту, – я хорошо знаю вас. Для того, чтоб вы поняли, как все это случилось, мне следовало бы начать с давнишней истории; но мне кажется, что, если б я даже рассказала вам все, что знаю сама, вы все-таки не поняли бы причины его брака. Право, не знаю, как мне удовлетворить ваше любопытство.
Действительно, едва ли когда-нибудь оно было возбуждено до такой степени.
– Вам необходимо узнать все, что он пережил до этого шага, – снова заговорила графиня, – только вы не осудите его. – Она встала, открыла один из больших шкафов, стоявших в комнате, и, вынув из него тетрадь, подала ее мне. – Прочтите эти письма, – продолжала она, – но не забудьте, что они написаны восемь лет назад, когда Гендрику было всего двадцать лет, и непременно прочтите их по порядку, так, как они в этой тетрадке. В последний раз, как Гендрик был здесь, он попросил у меня иголку и нитку голубого шелка, скрепил их вместе и поставил заглавие.
Было уже поздно, когда я вернулся домой, но тем не менее я сейчас же принялся за интересное чтение и только тогда положил тетрадь, когда прочел ее до конца.
7 декабря
Дорогая мать!
Я благополучно доехал до места своего назначения и здоров, но одиночество наводит на меня грусть, даже какой-то страх, хотя и совестно сознаться в этом. Ты знаешь, что я облекся в мундир не для того, чтоб разыгрывать героя, а чтоб принести свою лепту на пользу государства, которого считаюсь гражданином. Я страдаю тоской по родине, в особенности же сильной тоской по тебе; тоскую по старой мебели, по каждому темному закоулку нашего дома, по кошке, даже по отцу, который всегда был строг со мною и всегда относился ко мне, как посторонний человек. В первый раз очутился я на чужой стороне. У меня веселая и удобная квартира. Я сделал визит полковому командиру, был и у товарищей; первый был очень сдержан, вторые обошлись со мною с обидной вежливостью. Они дают мне почувствовать, что я вступил в полк с золотой портупеей.
Вот и сижу я один у теплой печки в вечерние часы; малый мой кипятит воду для чая, а я мысленно переношусь к тебе. Мне только стоит закрыть глаза – и сейчас же все оживает в моей памяти. Часы пробили пять. В это время мы пили кофе в твоей комнате. Анна теперь накрывает большой круглый стол, а Мартын стучит чашками; я слышу твой кроткий голос, слышу также, как Альфред и Роман дразнят добрую Анну, – но в эту минуту я не в состоянии смеяться над ее бесчисленными образами, над ее миртовым венком и романической преданностью патеру Серафиму; не посмеялся бы даже над общиною девиц. Сам Мартын, с его комическим влечением к домоправительнице, является для меня какой-то естественной необходимостью; не будь его – остался бы пробел в старом доме. Что поделывает Адам, этот славный Адам, которого я так любил, когда еще был ребенком, что только к нему одному шел от кормилицы и которого называл красивым Адамом, несмотря на конюшенный запах, немытые руки и красное лицо его, всегда покрытое лоском? Но я несправедлив к нему: однажды он вымыл свои руки; это было в тот день, когда он вложил две красные гвоздики в свою петлицу и посватался за Розалию. Не знаю только, помылся ли он в день своей свадьбы. А как поживает Розалия? Добрая душа, не одну слезу запекла она в яблочный пирог, который испекла мне на прощанье. Но я говорю о прислуге и забываю братьев. Добрые, милые братья! Они знают, как я люблю их; это мои первые друзья. Продолжают ли они воевать после моего отъезда? Кто же командует армией в мое отсутствие? Вероятно, они будут искать своего Наполеона; недосчитаются они еще четырех гренадеров и нескольких уланов, – они рассердятся, пожалуй, но я не могу утаить своего проступка: скажи им, что мне жаль было расставаться со своими картонными солдатиками, почему я и захватил некоторых из них с собою, а здесь они стоят на моем столе между книгами и бюстами Лермонтова и Пушкина.