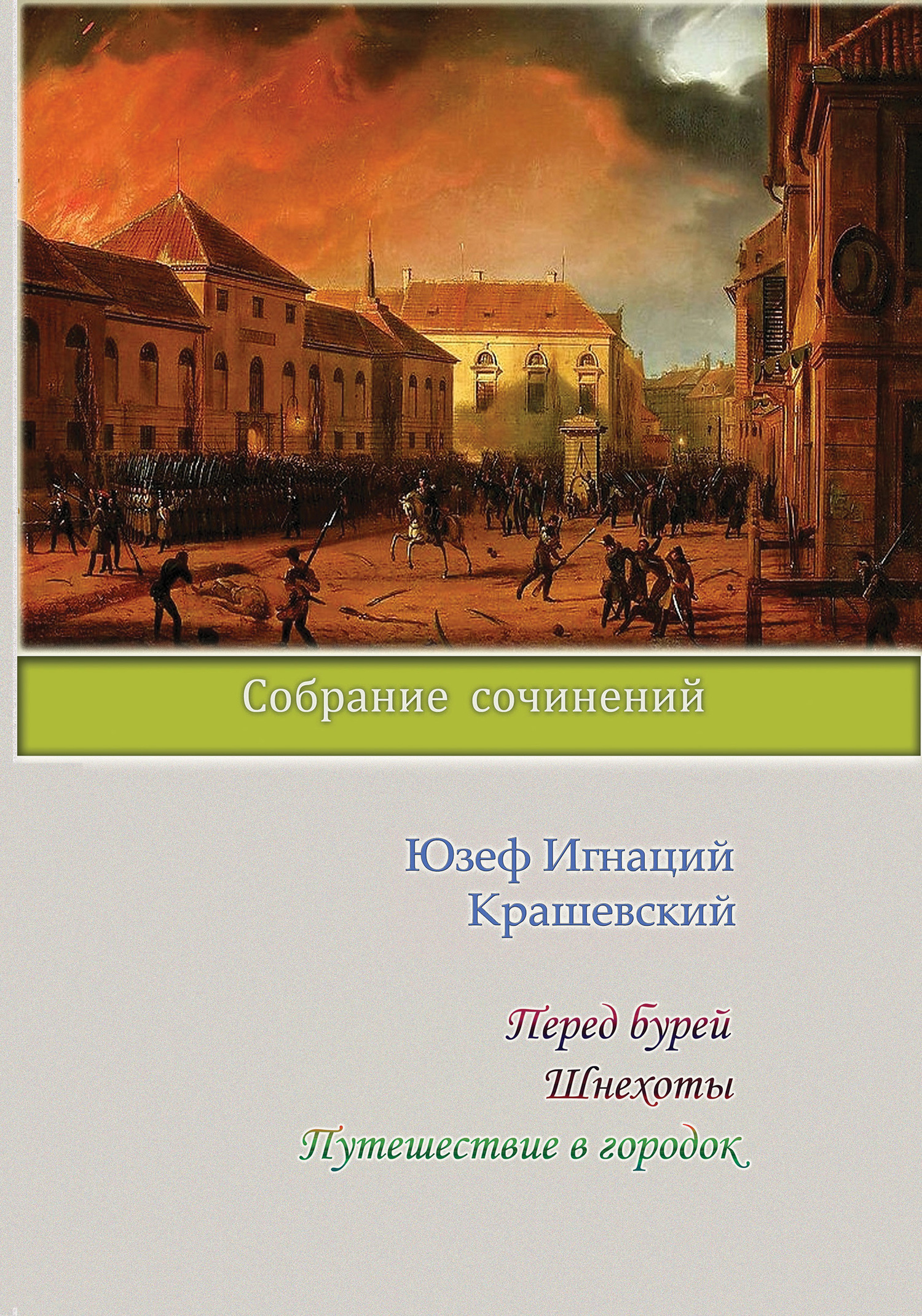Похорыло!
И давай его обнимать.
Поскольку некий пан Завадский с паном Сикорой играли как раз в занимательную партийку элбесвелде и бросить её не могли, Похорыло, растянувшись за их стульями, сел на канапе, уцелевшее от Побережа.
– Что там слышно? Откуда едете?
– Тогда вы уже должны знать большую новость! – воскликнул прибывший, потирая усы. – Воробьи о ней на крышах чирикают.
– Что же?
– Не бывая в театре, мы будем иметь бесплатную трагедию дома, – воскликнул Похорыло.
Элбесвелдийцы остановили игру, глядя на прибывшего с любопытством. Что там за новость в маленьком городке, где, когда двое евреев посудачили на рынке, неделю о том по усадьбам рассказывают.
– Что это за трагедия? – шипящим голосом отозвался Сикора, который имел привычку чуб наверх затирать, и уста как бы для свиста были всегда стиснуты, потому что ему снилось, что был красивый. – Что за трагедия?
– Ещё спрашивает! Вы, наверно, это знаете.
– Как я солдат! – подхватил Пятка. – Как я тебя люблю, моё дражайшее Рыло, не знаю ничего…
– Шутите!
– Не шутим! – отозвались разом Сикора, Завадский и Пятка. – Говори!
– Но дай же мне чего выпить! – сказал специально оттягивающий новость Похорыло.
Подали ему полную рюмку которую в меру высушил озябший гость, и рот его ужасно скривился.
– Но это лура! – воскликнул он без церемонии. – Где ты это взял, Пятко, дорогой, а это тебе евреи уксус за вино продают.
– Не обращай внимания, – отпарировал Пятка, – кисловатое, правда, но от холода тебе показалось таким острым. Вовсе неплохое молодое вино…
– Ага! Молодое, потому что из присланного винограда бестия выжимал… – и сплюнул.
– Дам тебе сладкой водки, – сказал Пятка.
Похорыло вытянул руку:
– Давай!
Налили и выпили.
– Говори же, – отозвался Пятка.
– Целая история… а во всём кто виноват? Пятка…
– Я? – воскликнул хозяин.
– Ну послушайте.
Похорыло имел жилку рассказывать как по написанному и, если начал, все знали, что им не простит мельчайшей подробности. Был это рассказчик, каких мало, знали его по этому таланту… Анекдотики, старые и известные, можно было из уст его слушать всегда с равным удовольствием.
– Одной осенней ночью, рассказывает правдивый Аарон, когда и собаки бы на двор не выгнал, а в «Бабе» не было живой души, – постучали в дверь, закричали: «Отворяй…» Думал еврей, что грабители, когда вошёл дородный мужчина, шапка набекрень, и ночлег стал требовать. Будучи в полмили от Розвадова, туда ехать не хотел, упёрся ночевать в «Бабе». Было в этом предназначение, фатальность… Едва тот незнакомец разместился, вламывается в двери некий наш знакомец, достойный обыватель Пятка, и вбегает…
– Ага! Я дома! – воскликнул хозяин.
– Не прерывай! – воскликнул Сикора и Завадский. – Тихо!
– Достойному Пятке…
– Бог заплатит!
– Не прерывай! – зашумели гости.
– Достойному Пятке, – продолжал дальше Похорыло, – юмора всегда хватает. Хоть незнакомый усач сидел нахмуренный, как среда на пятницу, давай его щекотать, давай его искушать, чтобы информацию вытянуть. От слова к слову тот гость при водке признаётся, что хочет купить имение; Пятка признаётся, что рад бы продать своё. Купить не купить, поторговаться можно – едем в Побереж. И вот как пан Еремей Пятка осел на брусчатке, а пан так называемый Шчука – на Побереже. Но это только начало истории… Это всё ничего, respice finem. Однажды, «душечка дорогая», ксендз пробощ заезжает с сеткой для рыбы ловить нового прихожанина. Смотрит ему в глаза. Что-то знакомое… Это Андрюшка Шнехота!
– Не может быть! – воскликнули, отрываясь от карт, Сикора с Завадским.
– Ей-Богу, – кончил Похорыло, – всё открылось. Шчука не Шчука, но родной брат того страдальца, что двух жён похоронил, и третью собирается привести. Ксендз, как вы его знаете, муж евангеличный, сразу кобылками в Розвадов с объявлением: «Нашёлся брат! Pat hominibus bonae voluntatis [31]». Но, ба, Шнехота слышать не хочет о том: «Не знаю брата…» Понимаете тогда, что тут за вещь вырисовывается! Есть будут друг друга Ян с паном Андреем, а мы на это смотреть…
Молчанием приняли новость.
– Но, с позволения, – произнёс шипяще Сикора, – о чём же речь?
– О чём? Ян об узурпации имения собирается процесс сделать, пойдет дело через решётки… Притом каждый день, каждый час новый повод придраться – словом, сатисфакция… На пост и на зиму не могло нам ничего попасть более вкусного.
– Если бы я знал заранее, что это Шнехота, – отозвался Пятка, – если бы я это знал заранее. Наверное, ещё бы несколько тысяч наторговал, потому что это его наследство, pretium affectionis [32] был бы должен заплатить. Но не надел капюшон, подшил под Шчук и вырвал у меня владения.
Сикора так стянул уста, что едва у него след их оставался, Похорыло раскрыл руки, смеясь.
– Иди, – сказал он, – душа души моей, дай тебя обниму Петею, дорогой, дитя моё! Что за логика! За это одно выражение pretium affectionis дал бы тебе коня с упряжью, если бы его имел.
Пятка задумался.
– Без шутки, – сказал он, – как вы думаете? Я бы мог сделать ему процесс о подходе?
Все начали смеяться, Пятка разгневался.
– Лучше всего, – сказал Завадский, – толкни слугу к Шмуле. Там Озорович, тогда с ним посоветуешься.
Духом послали за Озоровичем, обещая ему ужин и вино. Тем временем начались беседы… Что это будет? Кто его осилит? Действительно ли Андрей Шнехота воскресший покойник, или самозванец? Мнения были различные. Пятка загорался от мысли, что ещё какая-нибудь тысяча душ из этой трагедии вытеснится. После довольно долгого ожидания притащился Озорович.
– В такую пору человека, что разделся и хотел идти спать, тормошить, – сказал он с порога, – нужно не иметь милосердия.
Обнимает его Пятка.
– Ради Бога, что ты? Что ты?
– Что?
Озорович, который был в неплохих отношениях с мнимым Шчукой и имел надежду быть его уполномоченным, должен был «использовать политику». Он состроил чрезвычайно фиглярную и таинственную мину, фыркнул, покрутил ус, подвигал головой, расставил пару раз руку и доложил:
– Господу Богу известно, что из этого будет!
– Но что же ты скажешь про этого Шчуку, есть это настоящий Шнехота, или…
Озорович пожал плечами.
– Знаю то, – сказал он, – что муж степенный, что кошелёк имеет набитый, что человек высокого образования и что я предпочёл бы его на обеде, чем пана Яна на завтраке.
Тогда молчали, а Сикора торопил окончание элбевелбе.
– Но слушай, Озорович, – вставил Пятка, – на этом не конец, тот меня надул…
Адвокат глядел большими глазами.
– Гм? – спросил он. – Кто? Кого?
– А тот! Покупал Шчука, а купил Шнехота! Понимаешь это. Шчуке я мог продать за ту цену, а если бы знал, что наследство у меня купит Шнехота, я бы его потянул. Чистая, ясная вещь как солнце.
– Ясная, это правда, – вставил Похорыло, – но чтобы чистая, не знаю…
– А! Да, я должен восхищаться деликатностью, чтобы моя жена и дети с голоду умерли.
Похорыло начал смеяться, а Пятка, наклонившись к уху Озоровича, живо ему что-то шептал.
Разговор неизмерно оживился, потому что Озорович, который от камина до камина постоянно ременным дышлом ездил, насобирал множество новостей. Говорили тогда, что братья уже вели тяжбу, что Ян у