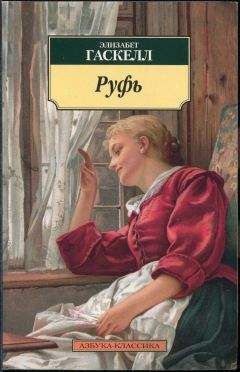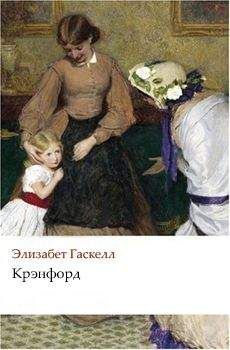лучше! Этому не бывать. Ты знаешь, что это неправильно… невозможно!
– Устал я от жизни. Тяжко, трудно мне жить. Пора уж и к Богу, нажился я с людьми. Значит, такая моя судьба, и ничего тут не поделаешь. Я еще с мальцов привязался к нему, когда он рассказывал мне про свои обиды в школе, да-да – всем делился со мной, как с братом! Ну и я любил его, как никого на свете, кроме Молли Гривз. Господи! Я снова свижусь с ней, уже скоро… наверно, уже в следующую субботу! Чаю, там, наверху, про меня худого не подумают, хоть я не сделал всего, что должен был сделать здесь, на земле.
– Диксон, Диксон… Ты же знаешь, кто совершил это… это…
– Кто виновен в убийстве, – сказал он. – Так они выражаются. В убийстве! И угадайте, кто это сделал!
– Мой бедный, несчастный отец, вот кто. Я нынче же еду в Лондон. Пойду к судье и все расскажу ему.
– Не вздумайте унижаться перед этим паршивцем, барышня. Ведь это тот самый, который бросил вас на произвол судьбы, как только смекнул, что вас могут ославить.
В первый раз за время их разговора он посмотрел ей в лицо, но она сделала вид, что не заметила его тяжелого, горького взгляда.
– Да! Я пойду к нему. Я знаю, кто он, и меня это не остановит. Быть может, оно и к лучшему, в конечном счете. Все-таки не совсем посторонний человек скорей поможет в такой ситуации. А прошлое… До прошлого ли мне теперь, когда все мои мысли только о тебе, мой добрый, верный друг!
– В своем седом парике он чистый старикашка. Встретил бы на улице, не узнал бы. Один раз я не удержался, зыркнул на него так, чтоб до него дошло: «Будь моя воля, не посмотрел бы, что вы судья, милорд, такого порассказал бы про вас!..» Уж не знаю, понял он или нет. Но видать, по старой дружбе он сказал, что будет просить для меня помилования. Только по мне, лучше смерть, чем такое помилование, куда как лучше. Вон тот, за дверью, говорит, что помилование означает Ботани [37]. Это все равно как убивать меня дюйм за дюймом, верно вам говорю. Да лучше сразу на небеса, чем жить среди черномазых!
Его снова затрясло: мысль о путешествии по морю в кандалах, за тридевять земель, навстречу полной неизвестности, страшила беднягу пуще смерти, и он как заведенный бормотал:
– Не дайте им отправить меня в Ботани, барышня, мне этого не вынести!
– Нет, ни за что! – заверила она. – Тебя выпустят из тюрьмы, и мы вместе поедем домой, в Ист-Честер, обещаю тебе. Обещаю! Не знаю, как я этого добьюсь, но добьюсь, поверь мне. Не думай о Ботани. Если ты поедешь туда, то и я с тобой. Но ты не поедешь. Сам рассуди: даже если ты нарушил закон, скрывая от правосудия все, что случилось той ночью, значит и я нарушила закон, и если тебя должны наказать за это, то и меня должны наказать. Но я верю, что все будет хорошо, то есть настолько хорошо, насколько может быть: нам обоим не забыть того, что случилось тогда, да и нельзя забыть. – Последние слова она произнесла, словно размышляя вслух.
Они долго сидели, взявшись за руки, и молчали. Тишину нарушил Диксон:
– Я ждал, что вы придете ко мне, хоть и знал, что вы в дальних краях. Но я молился. Господь всемилостивый, говорил я, позволь мне увидеть ее! Здешнему капеллану я сказал, что обращаюсь к Богу с покаянной молитвой, а сам просил о свидании с вами, все последние силы вложил в эту мольбу. Я подумал: Бог знает, чтó у меня на сердце, знает лучше, чем я могу о том сказать… Знает, как у меня душа болит за все, что я сделал не по совести, ведь я всегда признаю свою вину, если оступился. Но откуда кому знать, что мне позарез нужно увидеть мою барышню!
Они снова погрузились в молчание. Элеоноре уже не терпелось начать действовать, чтобы вызволить Диксона из тюрьмы, но она понимала, как драгоценны для него мгновения, проведенные с нею вместе, да ей и самой не хотелось покидать его хотя бы на секунду раньше, чем истечет время свидания. Пока она сидела с ним, голос его изменился, и теперь в нем явственно слышалось жалобное старческое дребезжание. Умолкая, Диксон словно бы впадал в дремоту, но и тогда крепко держал ее за руку, как будто боялся, что она внезапно исчезнет.
Так прошел час. Больше ни один из них ничего не сказал, и только время от времени по щеке Элеоноры скатывалась слеза – она не могла сдержать слез, хотя сама не знала, почему именно сейчас они снова и снова подступают к глазам.
Но вот надзиратель объявил, что их время истекло. Элеонора молча встала, наклонилась и поцеловала старика Диксона в лоб, сказав ему напоследок:
– Завтра я вернусь. Храни тебя Бог!
В ответ, издав какой-то невнятный звук и поднявшись на трясущихся ногах, он поднес руку к виску в привычном почтительном жесте. Элеонора устремилась вон из тюрьмы – к дому мистера Джонсона, которому в спешке и волнении не удосужилась сколько-нибудь внятно объяснить свой план действий. Выяснив для себя несколько сугубо практических вещей, она лишь коротко сообщила ему, что срочно едет в Лондон к судье Корбету.
В последний миг перед тем, как поезд, в который села Элеонора, тронулся в путь, она протянула руку в открытую дверь и крикнула мистеру Джонсону:
– Завтра я как следует поблагодарю вас за все! Сейчас не могу.
На вокзал Грейт-Вестерн она прибыла примерно в то же время, что накануне – в Хеллингфорд: в девятом часу вечера. По дороге Элеонора вспомнила об одном своем упущении, которое, впрочем, несложно было исправить: забыла спросить у мистера Джонсона, как ей найти судью Корбета. Если бы спросила, мистер Джонсон, вероятно, дал бы его служебный адрес. Теперь же ей пришлось взять у портье в гостинице почтовый справочник, где значился только адрес, по которому он проживал: Гайд-парк-Гарденс, 128.
Она вызвала к себе коридорного.
– Можете отправить посыльного на Гайд-парк-Гарденс? – без предисловий попросила она, понимая, что нельзя терять ни минуты, как бы она ни устала. – Нужно только узнать, дома ли нынче вечером судья Корбет. Если дома, я поеду к нему.
Обескураженный коридорный сказал, что посыльному легче было бы получить ответ, если бы леди разрешила назвать ее имя, но она и слышать об этом


![Под покровом ночи [litres] - Элизабет Гаскелл](https://cdn.my-library.info/books/398530/398530.jpg)
![Рука и сердце [сборник litres] - Элизабет Гаскелл](https://cdn.my-library.info/books/398529/398529.jpg)